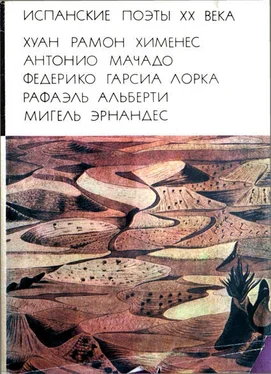Я помню: море там, вон там
среди деревьев шло по саду.
И шла любовь…
Я ухожу.
Удерживать меня не надо.
* * *
«Петь и петь, чтоб стать цветком…»
Петь и петь, чтоб стать цветком
моего народа.
Пусть пасется рядом скот
моего народа.
Пусть запомнит песнь мою
пахарь моего народа.
Пусть внимает мне луна
моего народа.
Пусть поят меня моря
моего народа.
Пусть ко мне склонится девушка
моего народа.
Пусть меня замкнет в себе
сердце моего народа.
Потому что, видишь, одинок
я без моего народа.
(Впрочем, сам я не́ жил дня
без моего народа.)
* * *
«Я ведь знаю, что голод уносит мечту…»
Я ведь знаю, что голод уносит мечту, —
но я должен по-прежнему петь;
что тюрьма заслоняет мечту, —
но я должен по-прежнему петь;
и что смерть убивает мечту, —
но я должен,
я должен по-прежнему петь.
* * *
Я унесу их с собою
в глазах, как портрет и как снимок, —
в глубине моих глаз.
Я приеду, в глаза мне посмотрят,
и кто-нибудь скажет:
«Реки
и кони в твоих глазах».
Душа других горизонтов
осталась и тихо уснула
в глубине моих глаз.
Вы не слышите? Дальние воды
и кони забытые медленно
проходят в моих глазах.
В глубине моих глаз.
Из книги
«ВЕСНА НАРОДОВ» (1955–1957)
ПУТЕШЕСТВИЕ В ЕВРОПУ
Перевод А. Наймана
Видеть снова, Европа, тебя! Видеть снова тебя! Видеть снова!
Наконец я увидел тебя. Ты меня одарила
долгим взглядом своим, но не мертвенным взглядом слепого —
безмятежным весельем встающего утром светила.
Я спустился к тебе как-то осенью с кручи небесной.
Расплескался ноябрь посреди голубого тумана.
Стыла Бельгия — в белое платье одетой невестой —
тихий ангел печали звонил в этот колокол странный.
Горн валялся в пыли, и горнист рядом мертвый валялся.
Погружаясь в коричневый сон, я от боли заплакал.
Я в Германии был, мрак над ней в небесах колыхался,
но уже распускался в руках ее утренний факел.
В снегопад я спустился на тело страдалицы Польши.
Осторожно на щит приняла меня Вислы сирена {212} 212 … Вислы сирена . — На гербе Варшавы изображена сирена со щитом в одной руке и мечом в другой.
.
Меч усталый ее не был кровью окрашенным больше,
жив народ ее, вставший с душой обнаженной из плена.
Да, из всех в нашем мире однажды придуманных казней
величайшая казнь на безвинный народ этот пала.
Пасть врага с каждым днем все грозней, все больней, все ужасней
его тело живое стальными зубами терзала.
Но взгляните: он все-таки жив. Снова, кроткий и нежный,
родничок его сердца забившей струею играет,
обращается к жизни мечта его с новой надеждой,
ночь над ним умирает, и день перед ним рассветает.
И опять я летел. Средь тумана вдали закачалась
Прага, как городок в поднебесье — приветливый, дальний,
и в студеном течении спящая Влтава казалась
королевой под крыльями белой голубки хрустальной.
Я увидел людей на заводах, в работе упорных;
стеклодувов ее — меж тончайших прозрачнейших граней;
совершенство и стройность во всем; и на землях просторных —
виноградные грозди, в заре тяжелевшие ранней.
А потом я с тобой повстречался: латинянка, но и славянка,
шла пастушкою вдоль запевающих песню полей ты,
и во лбу твоем месяц звенящий горел, точно ранка,
и вливалось в уста тростниковой дыхание флейты.
И сказал я: привет передай мой румынским крестьянам,
что спаслись после всех испытаний и тягот суровых.
Разбиваясь на брызги, нефть била под солнцем фонтаном,
пробуждался свободный народ, засыпавший в оковах.
О любовь, о величье, о слава! С какой теплотою
мне Румыния руку рукой своей крепкой пожала!
Ты — хозяйка судьбы, ты хозяйка над вольной землею,
ты засеешь ее, чтобы завтра скорее настало.
Я в Москву прилетел. Льдами город был наглухо скован.
Охраняла его звезд кремлевских высокая стая,
и Василий Блаженный по-прежнему был коронован,
в небе луковками куполов разноцветных блистая.
Читать дальше