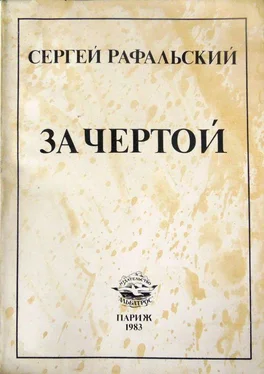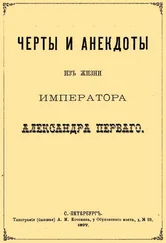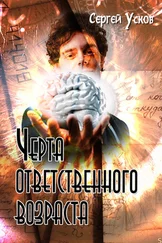Только жизнь для всего и над всем
Всех планет и времен Вифлеем!
Все земное когда-то умрет,
Не умрет Человеческий Род,
Ибо в нем изначала скрыт
«Планетарит».
1925 «Воля России». 1925. № 11
…«Двух станов не боец,
а только гость случайный».
Никак, никогда и нигде
не старался я вспомнить песню,
с которой общеизвестный Ангел
нес меня с неба на землю.
Быть может, он вовсе не пел,
а думал: «Как интересно родиться!» —
Быть может, он — это я:
дух нерожденный вернулся на небо,
а он воплотился
ночью осенней
в семье священника
на Волыни.
И стал жить совершенно, как все…
И только дикое свойство
всегда оставаться самим собой
помешало ему
преуспеть на планете…
Когда-нибудь срок свершится —
в день страшный и величавый
он с телом разъединится
и возвратится в Сиянья и Славы
и затоскует, святея,
о плоти греховной, делах и затеях,
о кроткой, простой, как улыбка, природе,
о тихих полях под закатом махровым,
о грусти и удали скифской запевки,
что в весеннем ярясь хороводе,
на пригорке под милым селом Холоневом
заводили горячие девки.
В срамном притоне пьяные матросы
от смеха плачут, глядя сквозь стекло,
как тощий ослик тучной негритянке
огромный хрящ вставляет под живот.
А юнга видит нимб златоволосый,
глаза сирены, сказочную плоть
богатой и надменной англичанки,
что никогда не смотрит на него.
Когда выходят — дымный воздух розов,
в заре звезда еще совсем живая,
как будто Вечный, небо закрывая,
сквозь ставни Рая смотрит на матросов
и в чепухе земной благословляет
то, что один, быть может, понимает…
Покрыв обноском бывшей зелени
холмов осенние бока,
день, айсбергом иного времени,
плывет, качаясь в облаках.
Дождь каплет вяло, неустойчиво.
Перестает. Не знает сам.
И рыщет смерть вслед гона гончего
по переселкам и межам.
А заяц, ушки намакушкены,
под кочкой, притаясь, лежит,
и золотая осень Пушкина
его никак не ублажит
и не утешит, что с дыханием
с востока веющим слегка,
в глухой истоме увядания
на дно немого ручейка,
морозные почуяв лезвия,
кровоточат листы осин…
…Но вот озябшим мелколесием
проходит чуткий господин,
и ложь манерная поэзии
хвост распускает, как павлин.
Лакеям снятся — леди и принцессы,
во сне девчонок хрыч горбатый видит,
тяжелый хам — мещанство ненавидит,
а греховодник — не пропустит мессы…
Но прямо в цель бьет ум лукавый Беса.
Он знает, кто в какой достойной свите,
кто служит Астарот, а кто — Киприде,
из-за деревьев кто не видит леса…
И вот — без отблесков и ада, и эдема
здоровье глупости и кротость доброты,
а тело крепкое — не мясо для гарема,
не тема пресная музейной наготы,
в снопах волос — ржаной мужицкий август…
…«Она вам нравится, любезный доктор Фауст?»
«Как хороши, как свежи были розы…»
Растерянный и опустевший сад
под низким небом в облачном заторе.
Кроваво-красные, как мясо — на заборе
Развесил листья вялый виноград —
как будто лета неостывший труп
здесь растерзали ранние морозы…
И ты сказала поутру,
едва удерживая слезы:
«Ах, не к добру!
Нет, не к добру
так доцветали наши розы!» —
И вспомнились иные дни,
иные грани жизни сирой —
снега, вечерние огни
над нашей Северной Пальмирой.
А вне утех ее блажных,
как небо без конца, без края,
в глубокой мгле морозной тишины
чего-то ожидая, что-то зная,
о чем-то смутно, смутно вспоминая,
недвижная, глухонемая,
спала она — страна родная.
Казалось — не подымет век!
Пока мужичий сон ей снится,
серебряный дворянский век
беспечно доживет Столица.
Пришелся он не ко двору
нам, скифам, грубым, плосконосым. —
Нет, не к добру,
ах, не к добру
так доцветали эти розы!
На пустыре мороз колючей,
палючей солнце, ветер злей.
Там пенится бурдой вонючей,
средь искалеченных вещей,
как бы зачумленный ручей.
Но среди гнили и проказы
на опозоренной земле
цветок раскрылся желтоглазый
в тепле весеннем осмелев.
Такой чудесно непреклонный,
на гадком мусорном горбе
он подымает лист зеленый,
как вызов миру и судьбе,
как зов к надежде и борьбе.
Так ты, в чистилище унылом,
где измельчало все, что было крупным,
где от стихов разит душистым мылом,
а от людей — распадом трупным,
кривым судом, чужим грехом
придавлен, как обвалом горным,
могильным выходцам тлетворным
твердишь упрямо о живом…
Читать дальше