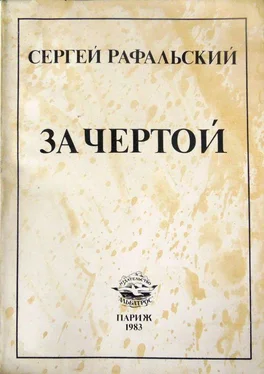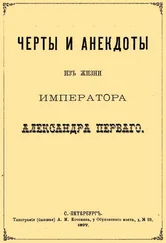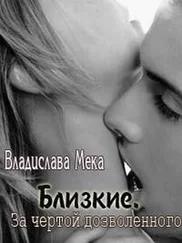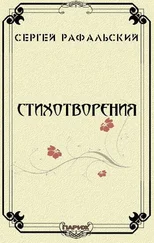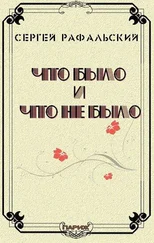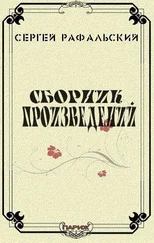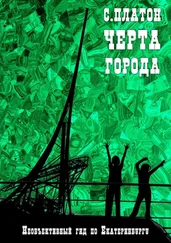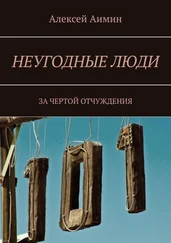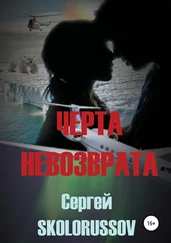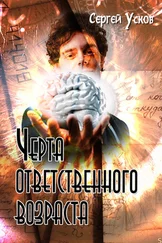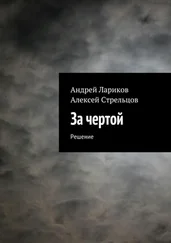По окончании университета с 1924 по 1927 Рафальский стал сотрудником Института изучения России, работая в отделе К. Р. Кочаровского. Во главе Института был А. В. Пешехонов, автор нашумевшей книги «Почему я не эмигрировал» (Берлин, изд. «Обелиск», 1923). Во втором томе записок этого Института Рафальский напечатал результаты своих изысканий «Сельскохозяйственные коллективы в Советской России». В 1925 году Рафальский женился на Татьяне Николаевне Унгерман, верной спутнице его долгой нелегкой жизни за границей.
В 1927 году он уехал с женой в Польшу в город Острог к отцу, где и прожил два года на самой границе. С началом НЭПа поверив в «российский Термидор», он хотел вернуться в Союз и отошел от эмиграции. Получив отказ и к тому же убедившись, что возвращаться собственно некуда, он с женой переехал через Прагу во Францию, в Париж, где в мае 1929 года Марк Слоним его устроил декоратором в мастерскую поэта Довида Кнута.
Трудности эмигрантской жизни не помешали Рафальскому заняться любимым делом — публицистикой и литературой. С появлением «невозвращенцев» он вошел в их группу и стал сотрудником журнала «Борьба», выходившего в Париже под редакцией Г.В. Беседовского. В этот период Рафальский подписывал статьи разными псевдонимами: Рафаил, Сергей Раганов. Из-за разногласий с редактором он вскоре вышел из «Борьбы».
После Второй мировой войны у Рафальских в их гостеприимной квартире на 6, rue Fourcade в XV аррондисмане собирались по субботам поэты, писатели и художники А. Гингер, А. Присманова, Вл. Корвин-Пиотровский, А. Туринцев, С. Шаршун, М. Андреенко, К. Померанцев… Рафальский возвращается в русскую прессу, печатая статьи сначала в «Посеве», стихи и ряд поэм в «Гранях». В 1956 году в «Возрождении» (59 тетрадь) публикует повесть «Искушение отца Афанасия», которая, по словам автора, «не прошла незамеченной». Его статьи в «Новом Русском Слове» и в „Русской Мысли» появлялись также под разными псевдонимами, вначале Волынский, а потом …Ский (так он подписывал в «Р. М.» свои «Современные басни») и под конец свои критические обзоры русской зарубежной периодики подписывал М. Сергеев.
С. М. Рафальский скончался в Париже 13 ноября 1981 года. Он шел предназначенной ему личной, тяжелой, самостоятельной дорогой. Определять его творчество и наклеивать на него тот или иной ярлык не так просто. У него свое лицо, свой голос, свой собственный мир мыслей и чувств, своя философия жизни.
У него осталась до конца страстная любовь к стране, которой принадлежали его лучшие чувства, о которой он никогда не переставал думать, к которой он никогда не переставал стремиться.
Рафальский, всем своим нутром русский человек, со своими определенными идеями и политическими убеждениями был одним из характерных представителей так называемой «первой волны» — его заблуждения, искания, колебания, порывы характерны для его поколения.
Р. Герра. Январь 83
СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ИЗДАНИЕ 1983 г
Можно молиться слезами, можно молиться кровью,
есть молитва ребенка, и молитва разбойника есть…
Не Ты ли прошел над нами огнепалящей новью,
и все выжег в сердце нашем, и только оставил месть?
Отчего Ты не был суровым к другим, милосердный Боже,
и только в нас нещадно метнул огневое копье?
…И кровь, и позор, и голод… Довольно! России нет
больше!
Только могилы и плахи, и только кричит воронье!
Трижды, четырежды распял… И труп распинаешь. Правый?
Быть может, грехам вековым еще не окончен счет,
быть может, нет искупления для наших забав кровавых —
но дети, но дети, дети! За что ты их мучишь? За что?..
Скройте лицо. Херувимы, плачь неутешно, Мария, —
только трупы и кости разбросаны по полям…
Разве не видишь, грозный, — изнемогла Россия.
Разве не видишь? Что же молчать не велишь громам?
Не видишь… И знать не хочешь… Весы Твоей правды строже!
Еще нужны искупленью тысячи тысяч смертей!..
Бичуй, карай — не поверим… Уже мы устали, Боже,
От воли Твоей…
Пусть теперь молятся камни, пусть рыдают и плачут,
пусть охрипнут от криков: «Господи, пощади!»…
Я свое человечье сердце, я страшное слово спрячу,
и только Тебе его брошу, когда Ты придешь судить!..
«За свободу!». 2.VII.1922
Люблю отчизну я, но странною любовью.
М. Лермонтов
Когда казалось: из окна
Вся ширь возможная видна,
А дальше — бездна и туманы,
Когда в морях могли плутать
И мимоходом открывать
Еще неведомые страны —
Среди чужих чудес и тайн
Отрадно было вспомнить край,
Где все привычно и знакомо,
Где будет старенькая мать
Года покорно ожидать,
Что блудный сын вернется к дому.
Но почему, когда прочли
Все тайны моря и земли
И каждый путь давно известен,
Когда сравняли навсегда
В священном равенстве труда
Различья стран — различья чести, —
Всего больней, всего нежней
Порою думаешь о ней,
Руси покинутой и нищей,
О горестных ее полях,
О длительных ее снегах,
О старой церкви на кладбище…
Не так ли пепел первых встреч
Всю жизнь назначено беречь,
И даже буря поздней страсти
Не унесет — о, никогда! —
Благословенные года
Неповторяемого счастья…
Земля моя, столица звезд!
Мне жребий твой чудесно прост,
Как смысл священного писанья:
Семья, Отечество и Мир,
И нескончаемая ширь
Неукротимого желанья, —
Но жизни каждую ступень
Не забываем через день:
Веками тень идет за нами,
И отливается печаль,
Когда ушедшего не жаль,
Благословенными стихами.
И эту грусть мы унесем
И в новый мир, как в новый дом,
И на полях планеты новой
Всего больней, всего нежней
Нам суждено мечтать о ней,
Земле своей, звезде суровой.
Читать дальше