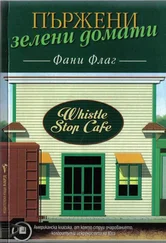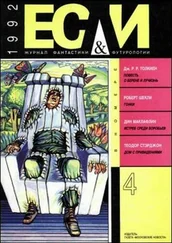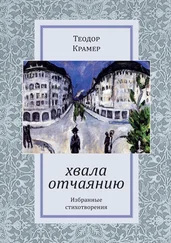Молчаливо садятся они на скамейки рядком;
колбаса — из конины с тухлинкой, зато с чесноком,
если кто припоздает — тому, для порядка ворча,
наливает корчмарь всё такой же стакан первача.
На стакане втором хоть один да развяжет язык,
тут же песня польется, до слез проберет горемык,
и на третий потянут слова неизбывной тоски,
и, мотив подхватив, застучат по столам тесаки.
Там, за деревней, где ряской канавы цветут,
средь золотарников — поля неправильный кут.
Хатка Йозефы за ним, в полминуте ходьбы.
Прямо под дверью лежат на просушке грибы.
Шпанские мушки да всякие зелья у ней,
козочка тоже: Йозефа других не бедней.
Вечером трижды, попробуй, в окно постучи —
дверь приоткроется, звякнут в потемках ключи.
Молча вдовец к ней приходит еще дотемна,
молча — кабатчик, пусть лезет на стенку жена,
молча — барышник с кольцом, только чтоб ни гу-гу,
молча — бирюк-винокур, зашибивший деньгу.
Горькой настойкой она угощает гостей,
есть постоянный запасец домашних сластей,
после — Йозефа постель приготовит свою.
Ежели что — так заварит себе спорынью.
Пышно цветут золотарник, татарник и дрок.
Нет никого, кто Йозефе послал бы упрек.
Дом, и коза, и кусок полевого кута, —
совесть Йозефы пред всеми на свете чиста.
Испятнан гарью городской
последний ряд лачуг,
и только чахнет день-деньской
за ними жалкий луг.
Как ты отчаянно мила,
тебе так мало лет;
я — городьба, на мне смола;
ты — яблоневый цвет.
Под вечер забрести сюда,
на насыпь лечь вдвоем;
гудят всё время провода
о чем-то о своем.
Брусчатник вечно перегрет,
летит по ветру шлак;
я — словно коксовый брикет,
ты — словно алый мак.
Проходит ночь, полдневный зной
по скупости храня;
курится над любой стеной
горячий воздух дня.
Акациями на юру
овеян наш ночлег;
я — пыль, что прячется в кору,
ты — первый сладкий снег.
Коль хоть один открыт трактир…
Спешат кабатчики: скорей
задвинуть сталь щеколд;
огонь бессонных фонарей
неумолимо желт.
Ползет из подворотных дыр —
тяжелое тепло.
коль хоть один открыт трактир —
ну, стало быть, свезло.
Пусть циферблату и темно,
у стрелок — свой делёж;
акаций запах сладок, но
горчит, едва вдохнешь.
Ползет со стен отмокший мел
под ноги, как назло;
кто шлюху зацепить сумел —
тому, считай, свезло.
Шлагбаум фыркает огнем,
край неба — чуть белей;
пыль, та же самая, что днем,
кружится вдоль колей.
В ночлежку лучше б ни ногой,
да больно тяжело, —
ну, прикорни часок-другой:
тебе, считай, свезло.
Зальце заштатной кафешки
возле развилки дорог.
Здесь ни погонки, ни спешки —
смело ступи на порог.
Право, бывает и хуже,
кисло вокруг не смотри.
Движутся барки снаружи,
трубки дымятся внутри.
Кофе и булочка с тмином,
а за окном — облака
вдаль уплывают с недлинным,
чисто австрийским «пока».
Чужд размышлений тревожных
этот приветливый кров,
правил помимо картежных
и биллиардных шаров.
Тянутся дни как недели,
длятся минуты как дни.
Детка, не думай о деле,
дядя, костыль прислони.
Здесь, у дорожной излуки,
мы коротаем года:
сумрак протянет к нам руки
и уведет в никуда.
Тост над вином этого года
Орех и персик — дерева;
скамей привычный ряд;
я чую лишь едва-едва,
что мне за пятьдесят.
Вот рюмку луч пронзил мою,
метнулся и погас, —
я пью, хотя, быть может, пью
уже в последний раз.
Пушок, летящий вдоль стерни,
листок, упавший в пруд,
зерно и колос — все они
по-своему поют.
Жучок, ползущий по стеблю,
полей седой окрас;
люблю — и, может быть, люблю
уже в последний раз.
Свет фонарей и плеск волны,
я знаю — ночь пришла,
стоит кольцо вокруг луны,
и звездам нет числа;
но, силу сохранив свою,
как прежде, в этот час
пою — и, может быть, пою
уже в последний раз.
В больнице тихо, полночь на земле.
Да не умру я завтра на столе!
Я буйабеса не поел в Марселе,
я в роще пальм не погулял доселе…
О, пусть я поживу и погрешу!
Мария, исцели меня, прошу!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу