Знание, которое предлагают нам восточные учения, в формулах и суждениях невыразимо. Истина — опыт, который каждый добывает на свой страх и риск. Учение указывает путь, который никто за нас пройти не может. Отсюда важность медитативных техник. Ученичество не в накоплении знаний, но в том, чтобы изощрить тело и дух. Медитация ничему не учит, кроме как науке забывать все учения и отвергать все знания. В итоге мы знаем меньше, но зато избавляемся от лишнего веса и можем отправляться в путь, потому что способны выдержать головокружительный и зияющий взгляд истины. Головокружительно неподвижный, исполненный зияния. За много веков до того, как Гегель открыл конечное тождество абсолютного ничто и полноты бытия, в Упанишадах о состоянии опустошенности говорилось как о миге сопричастности бытию: «Наивысшая ступень достигается тогда, когда все пять орудий познания собраны в уме и бездействуют, и ум тоже недвижен» [26]. Мыслить — это дышать. Это — задержав дыхание, удержать поток мыслей и тем самым создать пустоту во имя того, чтобы в ней расцвело бытие. Мыслить — это дышать, поскольку мышление и жизнь — не отдельные миры, но сообщающиеся сосуды: это есть то. Конечное совпадение человека с миром, сознания с бытием, бытия с существованием — это то, во что человек верил издревле, общий корень науки и религии, магии и поэзии. Все наши дела за тем и вершатся, что нам нужно отыскать эту старую тропинку, забытую дорогу, соединяющую оба мира. Снова и снова нам нужно открыть и удостовериться во взаимоувязанности противоположностей, в их изначальном тождестве. Тяготеющие к такому пониманию тантрические учения рассматривают тело как метафору, как образ мироздания. Воспринимающие центры — это сгустки энергии, скрещения звездных, кровеносных и нервных токов. Все позы сливающихся в объятии тел соответствуют определенному знаку зодиака, которым управляет тройственный ритм жизненной силы, крови и света. Сплетения тел, наподобие растительного ковра, покрывают стены храма Конарак; они суть солнца, восходящие со своего огненного ложа и сливающиеся в созвездия. Камень горит, влюбленные субстанции соединяются. Что алхимическая свадьба, что людская — одно и то же. Бо Чжу И рассказывает в своей автобиографической поэме:
In the middle of the night I stole a furtive glance:
The two ingredients were in affable embrace;
Their attitude was most unexpected,
They were locked together in the posture of man and wife,
Intertwined as dragon, coil with coil [27]. [28]
В восточной традиции истина — личный опыт. Поэтому, строго говоря, она непередаваема. Всякий сам должен начать и свершить дело истины. И только тот, кто пускается в это рискованное предприятие, может сказать, достиг ли он исполненности и совпадения с бытием. Знание невыразимо. Порой это «пребывание в знании» выражается в хохоте, в улыбке или в парадоксальной фразе. Но также улыбка может значить, что взыскующий ничего не обрел. И все знание в таком случае сводится к знанию, что знание невозможно. Сызнова и не единожды в текстах обыгрывается этот вид двусмысленности. Учение растворяется в молчании. Дао неуловимо и неименуемо: «Дао, могущее быть названнным, — не совершенное Дао; имена, которые можно произнести, — не совершенные Имена». Чжуан Цзы говорит, что язык по самой своей природе не способен выражать абсолютное, — это примерно та же трудность, с которой столкнулись создатели символической логики. «Дао не может быть определено… Тот, кто знает, не говорит. А тот, кто говорит, не знает. Поэтому Мудрец проповедует учение без помощи слов» [29]. Приговор словам выносится из-за неспособности языка выйти за пределы мира противоречивых взаимозависимостей, в котором «это» существует потому, что существует «то». «Когда люди говорят, что им что-то открылось, они имеют в виду книги. Но книги сделаны из слов. У слов, разумеется, есть значение. Значение слов коренится в смыслах, которые они утаивают. Так вот, эти смыслы и постигаются усилием, направленным на то, что непостижимо с помощью слов». И действительно, смысл нацеливает на вещи, указывает на них, но никогда их не схватывает. Вещи находятся за словами.
Критически относясь к языку, Чжуан Цзы все же не отказывается от слов. То же самое в чань-буддизме, учении, сводящемся к парадоксам и молчанию, но которому мы обязаны двумя наивысшими достижениями словесного творчества — театром Но и хайку Басё. Как это объяснить? Чжуан Цзы утверждает, что «мудрец проповедует учение без помощи слов». Превосходно. Но в отличие от христианства даосизм не верит в добрые дела. И в дурные тоже: он вообще в дела не верит. Бессловесная проповедь, которую имел в виду китайский философ, это вовсе не научение собственным примером, это научение с помощью языка, такого языка, который больше чем язык, ибо он способен речь неизреченное. При том что Чжуан Цзы не помышлял о поэзии как о языке, способном встать над «этим» и «тем» и речь неизреченное, его собственная мысль насыщена образами, играет словами и другими поэтическими формами. Поэзия и мысль Чжуан Цзы сплетаются в единую ткань, образуя редкое словесное полотно. То же самое и с прочими доктринами. Только благодаря поэтическим образам становится внятной даосистская, индуистская и буддийская мысль. Когда Чжуан Цзы объясняет, что опыт Дао предполагает возвращение к изначальному сознанию, в котором относительные языковые значения оказываются не у дел, он прибегает к игре слов, к поэтической загадке. Он говорит, что это возвращение к тому, что мы есть изначально, похоже на попытку «войти в птичью клетку и не потревожить птичек». Фан — это клетка и возвращение, мин — это птичий гомон и имена [30]. Таким образом, фраза также значит: «вернуться туда, где имена ни к чему», в молчание, царство очевидностей. Иначе говоря, туда, где имена и вещи сплавлены воедино и суть одно и то же, — в поэзию, царство, в котором именовать значит быть. Образ сказывает несказуемое: легкие пушинки это тяжелые камни. Нужно вернуться к языку, чтобы понять, как образ выговаривает то, что, как кажется, по самой своей природе язык сделать не в силах.
Читать дальше
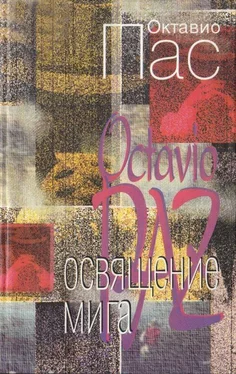
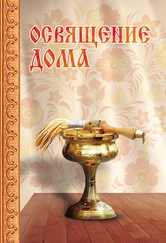


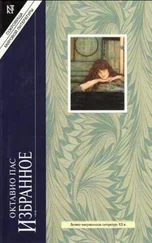
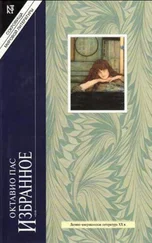
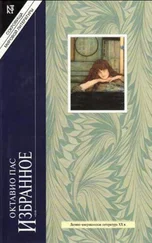
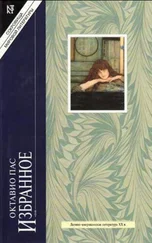
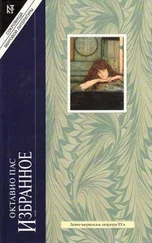
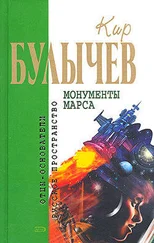
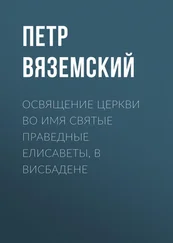
![Иван Шаман - Освящение [СИ]](/books/406691/ivan-shaman-osvyachenie-si-thumb.webp)