Дополнительным противоречием можно объяснить только некоторые образы, но не все. Кстати, то же самое можно сказать и про другие логические системы. Так вот, в стихотворении противоречия не только необходимо и динамично сосуществуют, но и преобразуются в тождество. И это мирное сосуществование, которое не наносит вреда ни одной из сторон посягательством на ее неповторимость, воздвиглось как стена, и эту стену западное мышление по сю пору не в состоянии ни перепрыгнуть, ни пробить в ней брешь. Начиная с Парменида {107} мы очень строго и категорично отличаем то, что есть, от того, чего нет. Бытие — это не то, что не-бытие. Этот первый разрыв, извлекший бытие из первоначального хаоса, положил начало нашему мышлению. На этих началах и воздвиглось то строгое сооружение «ясных и отчетливых идей» {108} , которое, сделав возможной историю Запада, с другой стороны, закрыло все возможности как-то иначе подступаться к бытию. Мистика и поэзия были обречены на зависимое, подпольное, ущербное существование. Их выкорчевывали постоянно и жестоко. С каждым днем последствия этого изгнания поэзии становятся все более очевидными и пугающими: человека выбрасывает из потока космической жизни и отлучает от самого себя. Всем ведь известно, что западная метафизика приходит к солипсизму. Чтобы превозмочь его, Гегель обращается к Гераклиту. Его попытка не вернула нам здоровья. Диалектический замок из горного хрусталя в конце концов предстает зеркальным лабиринтом. Гуссерль старается наново разобраться во всем этом и потому и говорит, что надо «идти назад к фактам». Но кажется, что и Гуссерль приходит к солипсизму. Задаваясь тем же вопросом, что и Парменид, Хайдеггер возвращается к досократикам, пытаясь сыскать ответ, который бы не заморозил бытие. Последнее слово Хайдеггера еще не сказано, но на пути его поисков бытия в экзистенции встала стена. Сейчас, как об этом говорят кое-какие из его последних работ, он возвращается к поэзии. Чем бы дело ни кончилось, ясно одно, что история Запада с этой точки зрения представляется историей ошибки, блуждания: мы не только потерялись в мире, но и ушли от самих себя. Надо начинать сызнова.
Восточное мышление не ведало этого страха перед «иным», тем, что есть и не есть одновременно. Западный мир — это мир «этого или того», восточный — «этого и того», и даже «этого, которое есть то». Уже в самой древней из Упанишад без околичностей утверждается принцип тождества противоположностей: «Ты — женщина. Ты — мужчина. Ты юноша и также девушка. Подобно старцу ты опираешься на посох… Ты — темно-синяя птица, и ты — зеленая птица с красными глазами… Ты — времена года, и ты — моря» [25]. Эти утверждения сведены в Чхандогъя Упанишаде в знаменитую формулу: «Ты — это то». Вся история восточного мышления проистекает из этой древнейшего изречения точно так же, как история западной мысли берет начало в изречении Парменида. Оно стало постоянной темой размышлений великих буддийских философов и экзегетов индуизма. Те же тенденции прослеживаются в даосизме. Все эти учения без конца повторяют, что противостояние «того» и «другого» неизбежно и относительно в одно и то же время и что в какой-то миг непримиримость двух позиций, казавшихся взаимоисключающими, исчезает.
Чжуан Цзы так комментирует функциональную и относительную природу противоположностей, что можно принять его за нашего современника: «Не существует ничего, что не было бы „этим“, нет ничего, что не было бы „тем“. „Это“ живет, поскольку живо „то“. Таково учение о взаимозависимости „этого“ и „того“. Жизнь есть жизнь перед лицом смерти. И наоборот. Утверждение является таковым, потому что существует отрицание. И наоборот. Поэтому если ты опираешься на „это“, тебе следует отрицать „то“. Однако у „этого“ есть свое утверждение и свое отрицание, и оно тоже порождает свое „это“ и свое „то“. Стало быть, истинный мудрец разделывается с „этим“ и „тем“ и находит убежище в Дао…» Есть такая точка, в которой «это» и «то», камни и пух сливаются. И эта точка — она ни раньше, ни потом, ни в начале, ни в конце времен. Это не рай материнской утробы или родины и не посмертные небеса. Она вне времени, в котором правят бал относительные противоположности; она живет внутри каждого мига. Она в любом мгновении, и она — это мгновение. Это самопорождение времени, его проистекание, непрестанная готовность скончаться, чтобы начать. Это ключ, источник. Здесь, где зарождается существование, самоосуществляясь, — быть камнем или пухом, чем-то легким или тяжелым, родиться или умереть, сбыться — одно и то же.
Читать дальше
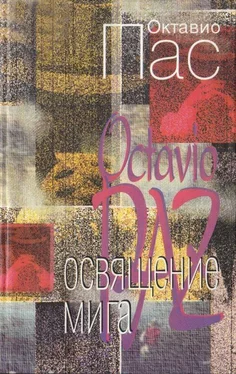
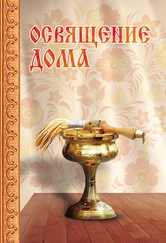


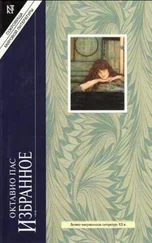
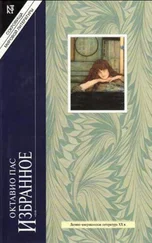
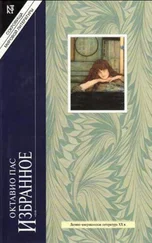
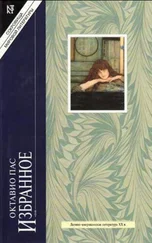
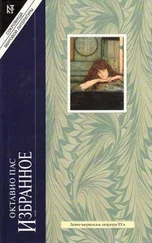
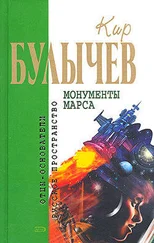
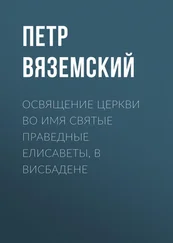
![Иван Шаман - Освящение [СИ]](/books/406691/ivan-shaman-osvyachenie-si-thumb.webp)