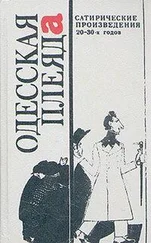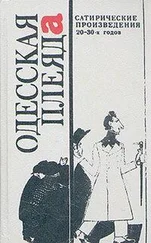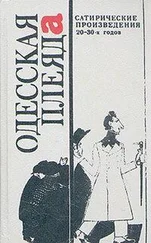Коричневый от солнца славный малый,
В Очакове невесту бросил он.
Девичья грудь и в косах бантик алый
Ему весь день мерещатся сквозь сон.
Он изнемог от сладостного груза
Своей любви. От счастья сам не свой,
На черном глянце спелого арбуза
Выскабливает сердце со стрелой.
1920
«Волну кофейную запенив…»
Волну кофейную запенив
И осторожно сдвинув нос,
Двухтрубный пароход «Тургенев»
Захлопал лапами колес.
Скользя по серому лиману,
Осенний ветер бьет в корму,
И тают башни Аккермана
За нами в пепельном дыму.
Пока лиман – не слышно зыби,
Но близко море. Вот оно
Уже темнеет на изгибе,
Восточным ветром вспенено!
Все тяжелей машина пышет,
Все чаще ржавой цепи визг.
И все сильнее ветер дышит
В лицо холодной солью брызг.
1920
Он молод был. Курчав и смугл лицом,
Откуда-то вернулся из Сибири.
Ружье и бомбы прятал на квартире,
Носил наган и был поэт притом.
В семнадцатом мы часто с ним вдвоем
Читали перед чайником в трактире
Эредиа единственного в мире
И спорили часами о Толстом.
Потом исчез. А через год с другими
Я повторил знакомое мне имя:
«Убит Мирбах. Убийца был таков».
Не даром же – «У левого эсера, —
Он говорил, – должно быть меньше слов,
Чем метких пуль в обойме револьвера».
1920
Как будто мяч тугой попал в стекло —
День начался от выстрела тугого.
Взволнованный, не говоря ни слова,
Я вниз сбежал, покуда рассвело.
У лавочки, столпившись тяжело,
Стояли люди, слушая сурово
Холодный свист снаряда судового,
Что с пристани поверх домов несло.
Бежал матрос. Пропел осколка овод.
На мостовой лежал трамвайный провод,
Закрученный петлею, как лассо.
Да жалкая, разбитая игрушка,
У штаба мокла брошенная пушка,
Припав на сломанное колесо.
1920
В порту дымят военные суда.
На пристани и бестолочь и стоны.
Скрипят, дрожа, товарные вагоны.
И мечутся бесцельно катера.
Как в страшный день последнего суда,
Смешалось все: товар непогруженный,
Французский плащ, полковничьи погоны,
Британский френч – все бросилось сюда.
А между тем уж пулемет устало
Из чердаков рабочего квартала
Стучит, стучит, неотвратим и груб.
Трехцветный флаг толпою сбит с вокзала
И брошен в снег, где остывает труп
Расстрелянного ночью генерала.
1920
«Жесток тюфяк. Солома колет…»
Жесток тюфяк. Солома колет.
От духоты и сон не в сон.
Но свежим духом ветер с воли
Совсем не веет из окон.
Всю ночь беседую с соседом.
Но Фет не Фет и стих не стих.
И не туманят тонким бредом
Ручьи медлительные их.
1920
«Если ночь и душна и светла…»
Если ночь и душна и светла,
Дышит грустью и праздностью странной,
Ароматна, крахмальна, бела,
Папироса мой друг постоянный.
Все я медлю курить: и пока
С папиросою пламя не слито,
В золотом волокне табака
Невозможность возможного скрыта.
Но едва огневой мотылек
Пропорхнет по обрезу тупому —
Там малиновый вспыхнет глазок
И запахнет табак по иному.
И теперь от иного огня
Острым дымом до сердца дотянет.
И опять, как и вечно, меня
Недоступностью воли обманет.
1920
«Подоконник высокий и грубый…»
Подоконник высокий и грубый,
Мой последний земной аналой.
За решеткой фабричные трубы,
И за городом блеск голубой.
Тот же тополь сухой и корявый
За решеткой в железной резьбе.
Те же пыльные, тусклые травы,
Тот же мертвый фонарь на столбе.
Не мечтай! Не надейся! Не думай!
От безделья ходи и кури.
За решеткой в темнице угрюмой —
Ни любви, ни весны, ни зари.
1920
«Раз я во всем и все во мне…»
Раз я во всем и все во мне,
Что для меня кресты решеток —
В моем единственном окне —
Раз я во всем и все во мне.
И нет предела глубине,
А голос сердца прост и кроток:
Что для меня кресты решеток,
Раз я во всем и все во мне.
1920
«Сквозь решетку втянул сквознячок…»
Сквозь решетку втянул сквознячок
Одуванчика легкий пушок,
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу