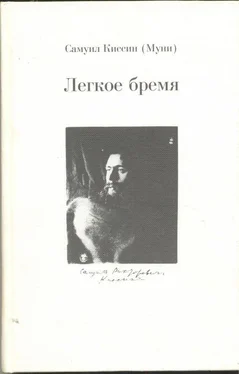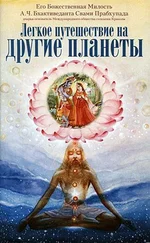Евфратова так и дергалась на стуле.
— Только тогда… — повторила она как эхо, но голосом более крепким и уверенным, чем та, кому она вторила. — А те — будь они прокляты!
Она встала, потом, отвернувшись, села на подоконник и стала смотреть в окно.
Кувшенко, неловко подергивая левым плечом, заговорил:
— Конечно, Аглая Васильевна, вы во многом правы, но ведь вы знаете мои взгляды. Может, я вам неприятен, как постепеновец какой-то. Но я не постепеновец. Я только думаю, что не ваши элементы, а речной человек все сделает… Когда время придет. Не нужно только отсрочивать, откладывать этого времени. Нужно с речным человеком дело иметь. Но только он это может. А чудес не надо никаких. Я, коли хотите знать, даже против чудес, потому что всякое чудо — шарлатанство. Унижение одно. Просто все должно быть, потому что простота — это первое дело, а второе… — Кувшенко запутался и не знал, что такое второе дело. — Мы не об одном толку, Аглая Васильевна! — пробурчал он и замолчал.
Прате грустно, почти жалобно глядел на Грэс. Она молчала. На гладком лбу не было мыслей, на алых губах — слов.
Кувшенко начал прощаться. Прате вышел провожать его. С нежным участием смотрел Прате. Прощаясь, у леса, подал он Кувшенке узкий листок бумаги.
— Если б вы писали стихи, вы, может быть, написали мне то же самое.
Кувшенко прочел:
В улыбке ваших губ скептической и нежной, и т. д.
Из дневника Кувшенки
Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит позднее молчанье ночи темной.
Захрусталило
У одной стены залы стоял низкий, обитый красным бархатом диван, у другой такие же стулья. (В соседнюю комнату была открыта дверь, и оттуда были слышны крики мужчин и визг женщин.) На полу залы было возвышение. На нем стоял рояль, и тапер уставшими пальцами гудел что-то веселое.
Прате, пьяный, со стаканом водки стоял в дверях. Жирные девицы, одетые бэбэ, носились по комнате. Кавалеры лихо притоптывали. Красные бэбэ визжали от желания показаться еще более женственными и нежными. Громадная Манефа, нарумяненная досиня, пышная и рыхлая, как тесто в опаре, колыхалась в руках какого-то парня в синей курточке и высоких сапогах. Что гремел тапер, нельзя было разобрать, но нелепые возгласы, визг и преувеличенные жесты плясавших подмывали Прате устремиться к ним. Вдруг какой-то человек, смирно сидевший на стуле, подошел к Прате и, уставившись в него неподвижным глазом, сказал:
— Па-азвольте, как благородный человек. Ищу, так сказать, по свету теплого уголка для чувства и так далее. Господин Грибоедов — истинный литератор и изобразитель. Так вот: экипаж мне, коляску. Я хочу в коляску!..
И, внезапно вырвав Манефу у зазевавшегося кавалера, он волчком завертелся по комнате, сбивая с ног других, громко ругаясь. Но казалось, никто не заметил. Тапер играл из последних сил. Иногда он кулаком стучал по клавишам. Красные бэбэ вертелись и неслись. Манефа сначала плыла, потом просто брыкалась. Мужчины не жалели каблуков. Тяжелое пыхтенье переполняло комнату. В углу за роялью стоял почитатель Грибоедова и блевал, подергивая головой.
Все устали, расселись по стульям и, отдуваясь, обмахивались платками. Какой-то молодой человек с длинными волосами присел к роялю и, неумело себе аккомпанируя, запел.
Тяжело отдувались красные бэбэ. Замученные кавалеры вытирали потные лбы. А голос, дрожащий и неверный, пел избитый мотив и печальные слова.
Проходят дни, и каждый сердце ранит… и т. д.
Певец кончил и сидел, закинув пьяную голову. Чего он ждал? Рукоплесканий или подачки? Кувшенко, пьяный и растрепанный, бросился на него.
— А-ва-ва, — кричал Кувшенко, — и ты знаешь! И тебе Грэс, и тебе!..
И он рвал воротник певца, и тискал, и мял его лицо и волосы. Девицы визжали. Хозяйка кричала, что в ее заведении не было таких скандалов. Пьяный Прате подошел к ним и, проливая водку на певца и Кувшенко, закатив глаза, провозглашал торжественно:
— Се елей помазания.
Певец, наконец, догадался убежать. А Прате обнял Кувшенко и говорил убежденно, пьяно и настойчиво:
— Грэс! Она одна! А мы все. Понимаешь, их две ведь — Мария и есть еще…
Прате свалился, и Кувшенко тоже. Красные бэбэ не знали, что делать. А одна смеялась и все громче кричала:
— Ну их к черту! Ну их к черту! — пока не заплакала.
На другой день пароход привез их в Перечню.
Из дневника Кувшенки
Ах, к чему всё!? И что я знаю? И что я могу знать? И я, и Прате, и Барановская, и все? Знает только она. Или не знание, не всеведение — она? Или и для ее золотых глаз есть горестные тайны? И на ее гладком лбу проходят морщины мыслей, отвращения и лжи? Господи! пусть сгорит моя жизнь! Пусть легкой струей дыма окутает ее ноги. Но нет. Почему не покорность в моей душе? Почему я все-таки не знаю, что сделал бы с нею, если бы был царем всего? Что, я прижал бы к губам край Вашей одежды, Грэс, или рыжий ветеринар Кувшенко был бы жесток и гнусен? Господи! Почему моя радость так помутнена желанием? Почему неспокоен мой сон? Почему я не плачу? Ни одной слезы не вызывает на сухие глаза мое исступление!
Читать дальше