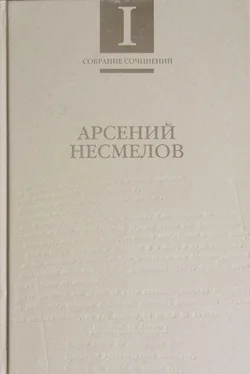ВОЛХВЫ ВИФЛЕЕМА («Шел караван верблюдов по пустыне…») [322]
Шел караван верблюдов по пустыне,
Их бубенцы звенели, как всегда.
Закат угас. На тверди темно-синей
Всходила небывалая звезда
И было всё таинственно и дивно —
Особая спускалась тишина…
И в этот миг, как некий звук призывный,
Вдруг где-то арфы дрогнула струна.
Как будто дождь серебряной капели
Стал ниспадать на стынущий песок:
То, пролетая, ангелы запели,
Переступив высокий свой порог!
И был прекрасен хор сереброкрылый,
Он облаком пронесся и исчез.
И, разгораясь, светочем всходила
Звезда на синем бархате небес.
И было всё настороженно-немо,
Погас вдали последний отблеск крыл,
И на огни, на кедры Вифлеема
Вожатый караван поворотил.
Из мглы горы сиял пещеры вырез,
Чуть слышалось мычание волов,
И в звездном свете сказочно струились
Серебряные бороды волхвов.
КЕША И ГОША («В городе волжском два друга жили…») [323]
В городе волжском два друга жили,
В лапту играли, в школу ходили,
И оба были в дни той весны
В одну гимназисточку влюблены.
А город хвостищем своим нелепым
Война захлестнула, и над совдепом
Кумач, угрожая отцам бедой,
Своей пятипалой хлестал звездой.
А тут еще переэкзаменовки!..
Не краше ли старые взять винтовки
И с ними, со стайкой других ребят,
В какой-то лохматый вступить отряд.
И вот — на вокзале. И вот у Жени
Для Кеши и Гоши букет сирени,
И вот от «ура», от последних ласк
Ребят отрывает вагонный лязг.
Граната, подвешенная на пояс,
Куда-то ползущий ослепший поезд,
И с кружкой, подсунутой чьей-то рукой,
Впервые в гортани ожог спиртовой.
Плечистее Гоша, глазастее Кеша,
Сердца боевою забавой теша, —
Всегда на виду и всегда впереди,
И хвалит их взводный с крестом на груди.
И Кеша, и Гоша любимы отрядом,
В бою, у костра ли — всегда они рядом:
И школа, и Женя, и этот поход —
Их крепко спаял восемнадцатый год!
Уже под Уралом, в скалистых откосах,
Отряд напоролся на красных матросов,
И Кеша упал с перебитой ногой,
Но друг не оставил его дорогой.
Увы, не уходят с тяжелою ношей,
Достались матросам и Кеша, и Гоша,
И маузер кто-то, бессмысленно-зол,
На мальчика раненого навел.
Но Гоша, кольцо разрывая охвата,
Собой заслонил сотоварища-брата
И крикнул: «Меня, если хочешь, убей,
Но Кешу… но раненого — не смей!»
И вздрогнул от первой стремительной боли —
Матросы штыками его закололи,
А друг был отбит и, поведали мне,
Безногий, живет до сих пор в Харбине.
Да светится память подростка, героя
Безвестного, давнего, малого боя,
Сумевшего в зверский, в бессмысленный миг
Высоко поднять человеческий лик!
«Пели добровольцы. Пыльные теплушки…» [324]
Пели добровольцы. Пыльные теплушки
Ринулись на запад в стукоте колес.
С бронзовой платформы выглянули пушки.
Натиск и победа или под откос.
Вот и Камышлово. Красных отогнали.
К Екатеринбургу нас помчит заря:
Там наш Император. Мы уже мечтали
Об освобожденьи Русского Царя.
Сократились версты, — меньше перегона
Оставалось мчаться до тебя, Урал.
На его предгорьях, на холмах зеленых
Молодой, успешный бой отгрохотал.
И опять победа. Загоняем туже
Красные отряды в тесное кольцо.
Почему ж нет песен, братья, почему же
У гонца из штаба мертвое лицо,
Почему рыдает седоусый воин?
В каждом сердце словно всех пожарищ гарь.
В Екатеринбурге — никни головою —
Мучеником умер кроткий Государь.
Замирают речи, замирает слово,
В ужасе бескрайнем поднялись глаза.
Это было, братья, как удар громовый,
Этого удара позабыть нельзя.
Вышел седоусый офицер. Большие
Поднял руки к небу, обратился к нам:
«Да, Царя не стало, но жива Россия,
Родина Россия остается нам.
И к победам новым он призвал солдата,
За хребтом Уральским вздыбилась война.
С каждой годовщиной удаленней дата;
Чем она далече, тем страшней она.
РАССКАЗ О КАЗНЕННОМ РЕПОРТЕРЕ (1–7) [325]
Читать дальше