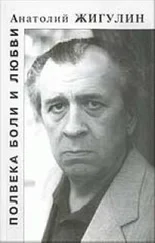И хоть отметки роковые
На шее видел мал и стар,
Врач записал:
«Гипертония», —
В его Последний формуляр.
И на погосте, под забором,
Где не росла трава с тех пор,
Он был земельным прокурором
Навечно принят под надзор…
Промчались годы, словно выстрел…
И в память тех далеких дней
Двенадцатая часть убийства
Лежит на совести моей.
1964
Что говорить. Конечно, это плохо,
Что жить пришлось от жизни далеко.
А где-то рядом гулко шла эпоха.
Без нас ей было очень нелегко.
Одетые в казенные бушлаты,
Гадали мы за стенами тюрьмы:
Она ли перед нами виновата,
А может, больше виноваты мы?..
Но вот опять веселая столица
Горит над нами звездами огней.
И все, конечно, может повториться.
Но мы теперь во много раз умней.
Мне говорят:
«Поэт, поглубже мысли!
И тень,
И свет эпохи передай!»
И под своим расплывчатым «осмысли»
Упрямо понимают: «оправдай».
Я не могу оправдывать утраты,
И есть одна
Особенная боль:
Мы сами были в чем-то виноваты,
Мы сами где-то
Проиграли
Бой.
1963–1964
В округе бродит холод синий
И жмется к дымному костру.
И куст серебряной полыни
Дрожит в кювете на ветру.
В такие дни
В полях покатых
От влаги чернозем тяжел…
И видно дали,
Что когда-то
Путями горькими прошел.
А если вдруг махры закуришь,
Затеплишь робкий огонек,
То встанет рядом
Ванька Кураш,
Тщедушный «львiвський» паренек.
Я презирал его, «бандеру».
Я был воспитан — будь здоров!
Ругал я крест его и веру,
Я с ним отменно был суров.
Он был оборван и простужен.
А впереди — нелегкий срок.
И так ему был, видно, нужен
Махорки жиденький глоток.
Но я не дал ему махорки,
Не дал жестоко, как врагу.
Его упрек безмолвно-горький
С тех пор забыть я не могу.
И только лишь опустишь веки —
И сразу видится вдали,
Как два солдата
С лесосеки
Его убитого несли.
Сосна тяжелая упала,
Хлестнула кроной по росе.
И Ваньки Кураша не стало,
Как будто не было совсем.
Жива ли мать его — не знаю…
Наверно, в час,
Когда роса,
Один лишь я и вспоминаю
Его усталые глаза…
А осень бродит в чистом поле.
Стерня упруга, как струна.
И жизнь очищена от боли.
И только
Памятью
Полна.
1964
Я поеду один
К тем заснеженным скалам,
Где когда-то давно
Под конвоем ходил.
Я поеду один,
Чтоб ты снова меня не искала,
На реку Колыму
Я поеду один.
Я поеду туда
Не в тюремном вагоне
И не в трюме глухом,
Не в стальных кандалах,
Я туда полечу,
Словно лебедь в алмазной короне —
На сверкающем «Ту»
В золотых облаках.
Четверть века прошло,
А природа все та же —
Полутемный распадок
За сопкой кривой.
Лишь чего-то слегка
Не хватает в знакомом пейзаже —
Это там, на горе,
Не стоит часовой.
Я увижу рудник
За истлевшим бараком,
Где привольно растет
Голубая лоза.
И душа, как тогда,
Переполнится болью и мраком,
И с небес упадет —
Как дождинка — слеза.
Я поеду туда
Не в тюремном вагоне
И не в трюме глухом,
Не в стальных кандалах.
Я туда полечу,
Словно лебедь в алмазной короне —
На сверкающем «Ту»
В золотых облаках…
1976


Минус сорок
Показывал градусник Цельсия.
На откосах смолисто
Пылали костры.
Становились молочными
Черные рельсы,
Все в примерзших чешуйках
Сосновой коры.
Мы их брали на плечи —
Тяжелые, длинные —
И несли к полотну,
Где стучат молотки.
Солнце мерзло от стужи
Над нашими спинами,
Над седыми вершинами
Спящей тайги.
С каждым часом работы
Они тяжелели,
Синеватую сталь
В наши плечи вдавив.
И сочувственно хмурились
Темные ели,
Наше дружное «взяли!»
Сто раз повторив.
Нас по восемь на рельс.
А под вечер — по десять,
По четырнадцать
Ставил порой бригадир.
И казалось нам:
Будь рукавицы из жести,
Все равно бы за смену
Протерлись до дыр.
Читать дальше