Давление — как в камере кессонной
На дне морском, на черной глубине.
Один товарищ совершенно сонный,
Другой хрипит, а третий как в огне.
И хоть понятно всем: приходит крышка, —
А умирать не научились мы.
«Друзья, держитесь, — шепчет наш малышка, —
Никто не даст нам мужества взаймы».
Алеша, милый, как же мы считали,
Что мал ты сам и что душа мала.
Бывало, недомерком называли
И обижали, не желая зла!
А вот сегодня в званьи краснофлотца
Выносливым ты оказался, брат.
Бывает, что струна не скоро рвется
И держит тяжесть дольше, чем канат.
Он аварийный свет зажег и пишет…
Что он там пишет в вахтенный журнал?
Опять я узнаю тебя, Акишин,
Всю жизнь ты письма длинные писал.
Но это вынуждено быть коротким.
Ломается, крошится карандаш.
Все меньше воздуха в подводной лодке,
И в срок такой всего не передашь.
В журнале вахтенном маршрут исчислен,
И на уже исписанном листе
Словами недосказанными мысли
Таинственно мерцают в темноте:
«Любимая моя! В последний час
Тебе пишу всю правду — в первый раз.
(Потоплен транспорт в девять тысяч тонн,
Но корпус лодки сильно поврежден.)
Я чувств своих ничем не выдавал,
Я никогда тебя не целовал.
(Разбит отсек центрального поста.
Матросов душит углекислота.)
Ты не жалей меня. Я счастлив был
Хотя бы тем, что так тебя любил.
(Кончается зарядка батарей.)
Я должен все сказать тебе скорей.
(Наш командир убит.) Но стану врать,
Что будто бы не страшно умирать».
Медлительна, безжалостна природа.
Живой Акишин смотрит в темноту,
Вдыхает он остатки кислорода
И выдыхает углекислоту.
Вот больше нет ни горечи, ни боли,
Но всем законам смерти вопреки
Он сверху по странице пишет: «Леле»
Квадратными движеньями руки.
А толщи волн, колеблясь равномерно,
Покоя ищут в черной глубине,
Там, где, присяге оставаясь верной,
Лежит «малютка» мертвая на дне.
Хвостами травы донные лаская,
Проходят рыб холодные тела,
И, как на обелиск, звезда морская
Над капитанским мостиком взошла.
Глава тридцатая
В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ
Приволжских степей голубое раздолье,
До самого Дона равнины в полыни.
Вот, кажется, ты уже справился с болью,
Но вдруг она снова под горло нахлынет.
Здесь люди ни разу не слышали грома
И окна еще затемненья не знали.
Все в тихой задонской станице знакомо,
Хотя необычным казалось вначале.
Камыш этих крыш, как свирели, изящный,
Дымок горьковатый и запах кизячный.
Подходят к садам и колхозной овчарне
Просторы учебного аэродрома.
Учлеты — безусые крепкие парни —
Стучат в домино возле каждого дома.
Полеты окончены по расписанью.
Обед. Перерыв. А с шестнадцати в классы,
На лекции. Завтра предутренней ранью
По небу чертить пулеметные трассы.
И снова обед, перерыв и занятья,
И сон на хозяйской дощатой кровати.
А где-то с врагами сражаются братья,
И ворог советскую землю кровавит.
Опять командиру отряда не спится
На хуторе, под одеялом лоскутным.
Возьми себя в руки, товарищ Уфимцев,
Товарищи тоже по битве тоскуют.
Легко возвращать рапорта подчиненным:
«Вы здесь на посту! Вы готовите кадры».
Но как запретить своим мыслям бессонным
Страдать после каждого взгляда на карту,
Где линия фронта змеится сурово
К востоку от Харькова и от Ростова!
Раз десять Уфимцев ходил к генералу.
Тот злился: «У вас не в порядочке нервы.
От вас еще рапорта недоставало!
Лечитесь. Нет дела важней, чем резервы!»
И снова он аэроклубовцев учит
Фигурам и тактике встречного боя.
Курсант Кожедуб поднимается в тучи,
И эхо в степях отвечает пальбою.
Уфимцев курсантам завидовать начал:
«Они, окрылившись, умчатся отсюда,
А я перед новыми ставить задачи
Опять по программе ускоренной буду».
Он зависть хранил, как военную тайну,
Как нежность к неузнанной девушке Тане,
Как память о той расцветающей ночи,
Что так коротка — не бывает короче.
И снова и снова он думал о Тане:
Что с нею сегодня? А может, забыла?
Он писем писать ей, конечно, не станет:
Противно писать из глубокого тыла!
Читать дальше
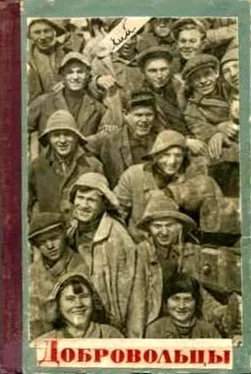

![Евгений Долматовский - Штурм Берлина [Воспоминания, письма, дневники участников боев за Берлин]](/books/34539/evgenij-dolmatovskij-shturm-berlina-vospominaniya-thumb.webp)









