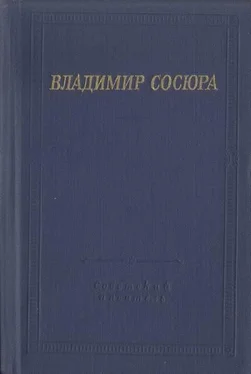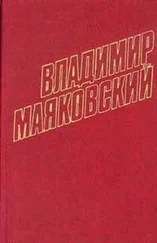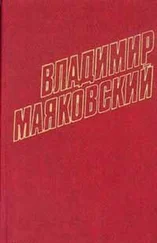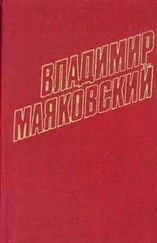В твоих глазах, орел, спокойное сиянье.
А в жизни с каждым ты открыт, приветлив, прост.
Ты, словно памятник, стоишь в моем сознанье
с крылом, простертым ввысь —
до самых дальних звезд.
20 сентября 1961 Киев
427. «День отсиял неповторимо…»
День отсиял неповторимо,
в степях разлил зари вино.
И вечер заглянул незримо
глазами синими в окно.
С приветом на меня глядит он,
распространяя синь и сонь,
чтоб стукнул кованым копытом
в брусчатку ночи черный конь.
И, высекая чудо-искры,
конь будет мчать и мчать во мгле,
и вспыхнет месяц серебристый
у черной ночи на челе.
20 сентября 1961 Киев
428. «Пусть цветик последний в долине…»
Пусть цветик последний в долине
зачах,
но в сердце всё песня о синих
очах.
В них звезды задумчиво светят
на черные пашни ночей.
И жить не могу я без этих
очей…
В них вижу и днем я и ночью
сиянье небес голубых.
И пусть нас не будет, — те очи
светить будут в песнях моих.
24 сентября 1961 Киев
429. «Растреплются в ветрах зимы холодной косы…»
Растреплются в ветрах зимы холодной косы,
неумолимый снег засыплет желтый лист
пуховой пеленой… И солнце глянет косо
на голые леса, где только ветра свист.
И ласковое лето вспоминать я буду
в цвету счастливых дней, как молодость мою.
И вот увижу вдруг я уцелевший чудом
один-единый лист, упавший на скамью.
Я сяду на скамью, и только ветра гаммы
всё будут для меня в пустом саду звучать…
Тот одинокий лист согрею я губами,
на память положу его себе в тетрадь.
24 сентября 1961 Киев
430. «Я не забыл ребят-дружков…»
Я не забыл ребят-дружков,
ремесленную школу,
где стал впервые у тисков
под стали звон веселый.
Всё это кажется мне сном,
а ведь взаправду было…
Я бил по пальцам молотком,
хоть целился в зубило…
Еще не мчался я в строю
под грохот стали в дали,
но в кровь уже вошли мою
крупицы чистой стали.
Там небо в окнах так тепло,
так радостно синело!
Мое рабочее село
в акациях шумело.
Усталость вахты трудовой,
весны далекой громы…
Звонок, и вот мы всей гурьбой
летим скорее к дому.
Летим по улице вон той,
свет-солнышком залитой…
Овраг. Погост. Там батька мой
лежит в земле зарытый.
И с ним в земле сырой лежат,
где щебет птичьей стаи,
два деда, две бабуси, брат
и матушка родная.
Ах, как бы это в жизнь вернуть
их золотые души!
В глаза их добрые взглянуть,
их голоса послушать…
Плывет, подобный серебру,
донецкий тихий вечер.
С любовью нежною беру
я братика на плечи.
Иду, его несу в огне
зари золотокрылой.
Я разве знал, что скоро мне
стыть над его могилой?!.
Гудки гудят, и даль дрожит
вечернею порою
там, где Олежек мой лежит,
мой братик, под землею…
Вот дед Владимир. Всю семью
он держит очень строго.
Я, маленький, пред ним стою,
боюсь его немного.
Он чай горячий пил, спешил,
зайдя к соседке Паше,
а я передразнить решил
его негромкий кашель.
Но он лишь улыбнулся мне:
«Не надо так, Вовуся!»
А за стеною в тишине
молилася бабуся.
Вот, как жар-птицыно перо,
я мчусь в зари ворота…
А вот другой мой дед, Дмитро,
родная Третья Рота.
Глаза горели, как в огне,
и кровью пели вены,
когда о Гарибальди мне
читал он вдохновенно…
Нет, не забуду это я!
Меняются картины…
Другая бабушка моя.
Добры ее морщины.
Нет, до сих пор я не забыл
глаза людей и души…
Как я у бабушки любил
под вечер сказки слушать!
Среди болот Яга живет
в глухом и темном месте…
Зевает бабушка и рот
беззубый сонно крестит…
Вот новый день мной воскрешен,
он никнет, словно колос…
И слышу я гитары звон
и задушевный голос…
То батька… Мука сердце рвет…
Поет он о садочке
и о вдове, что там живет,
о милой вдовьей дочке…
И снова память ожила…
Когда мы шли лавиной,
я крест, что мама мне дала,
взял и в траву закинул.
Мы солнце добыли в бою
всему простому люду…
Но я и юность и семью
родную не забуду.
Читать дальше