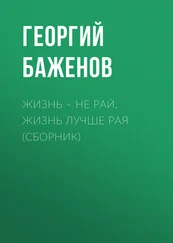Папа работал, шуметь запрещал
«Папа работал, шуметь запрещал» —
видно, он днем писал, не по ночам.
как это здорово, рифмы кайму
запеленать не себе одному!
Но, скажем честно, сегодня прошел
век поэтический, но не ушел
в душах поэзии сладкий гормон
и теребит, без сомнения, он
в юных сердцах – неумолчный мотив,
в душах испытанных – аперитив,
в нас остальных – незаметный излом,
тот, что готовит веков перелом,
тот, что стучит революцией в грудь,
и ведь уже ничего не вернуть!
Тот, что скучает по чистой реке,
верной-текущей – внутри-вдалеке.
Поэт в России даже не поэт,
сама Россия больше не Россия,
и никого об этом не спросили,
и не с кого потребовать ответ.
Лишь все легонько руку приложили,
ведь надо было как то выживать —
крестами полотенца вышивать,
когда пасьянсами нам судьбы разложили.
И вот мы выживали, даже жили,
как нам казалося порою иногда,
и проносились мимо поезда,
а мы им шпалы с песней уложили.
Нас больше не обманешь, это факт,
как обмануть, кто ни во что не верит?
Не отдавать себя за просто так,
хоть это трудно – лезть в открыты двери.
А что такое это «просто так»?
Поди-ка, откажися от зарплаты?!
И шпала вновь осталася в руках,
к которым приросла уже лопата.
Я хочу тебе сказать —
Тебе со мной не совладать!
Ты хочешь мне сказать —
Тебе с собой не совладать.
Ты будешь искать, искать, искать,
И я даже буду немного ждать,
И если ты выйдешь потом из огня,
То, может, успеешь – найдешь меня.
Ранить пташку певчую проще, чем легко,
Даже если пташечка взвилась высоко,
Даже если, кажется, все ей удалось
Трепетное крылышко в бронзе отлилось.
Может, и вульгарная, но такую ждут,
Как к соседке рядышком в гости к ней идут,
Потому не трогайте пташкину судьбу,
За соседку ненависть подарят врагу.
Ведь гостей у пташечки не один мильон,
Если что не нравится – выйди лучше вон,
А про незажившие знает и сама,
Цену всю высокую отдала сполна.
Но души единственной разлила на всех,
Всем испить хватило по глотку успех,
На селе и в городе, за столом и под —
Каждый смог почувствовать жизни этой плод.
Ранить пташку певчую проще, чем легко,
Только нынче пташечка ой как далеко,
И в полете дерзком слезы уж не льет
Женщина. Которая. Из души. Поет.
Рука твоя была холодна,
но глаз струился теплый свет,
душа сказала «да» бесплотно,
но тело говорило «нет».
Моя ладонь всегда горяча,
крепка и ласкова рука,
но дрожь ревнивую не спрячешь
и не уймешь ее пока.
И да и нет в одном флаконе
уж стало слишком для меня,
я кисть холодную в ладони
согрею пламенем огня.
Хотя, возможно, поздно стало
мечты желанье воплотить,
но сердца зов не перестанет
воспоминанья приводить.
Мой зов немой сильней пространства,
он время вспять поворотил
и постоянного непостоянства
ревниво жажду укротил.
Словно и не было лета,
Голос за кадром звучит.
Глядя на красные листья,
Радость в душе не молчит.
Радость за снежные хлопья,
Мокрые стылые дни,
Отдохновенье от солнца
Сердцу приносят они.
Осень, волшебная осень,
Дай поглядеть на тебя,
Осенью осень не спросит,
Как же ты жил не любя.
Смотрю в окно, внизу дома.
Ах! Лето на исходе,
снуют прохожие, едва
что-либо понимая вроде.
Им невдомек, что я уж тут
за них продумал этот вечер —
ведь разве можно на лету
почувствовать с мгновеньем встречу!
Созерцатель Крамского – никому, брат, не нужен —
слишком грязен и рван, нет прошенья в глазах,
и души его голос давно уж простужен,
продубело все тело на холодных ветрах.
Светит луч человечий из засохшего лона,
хоть не видит уже ничего он вокруг,
но живое и нервное тело надело
маску вечности жестом упрятанных рук.
Ничего он хорошего, право, не видит,
да и что он хорошего видеть бы смог?
Он обижен уж всем, чем возможно обидеть,
но живет, ведь себя уж давно превозмог.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу