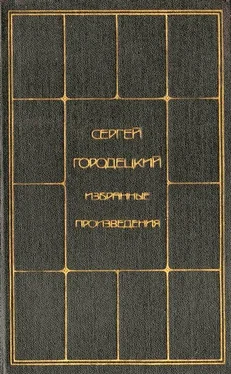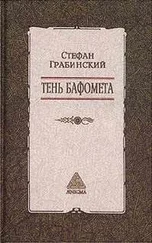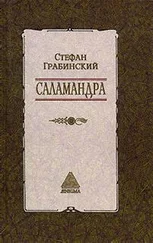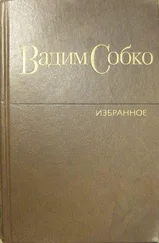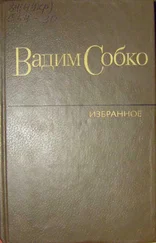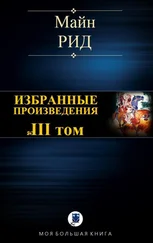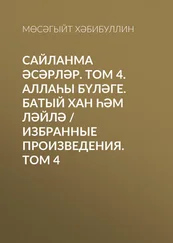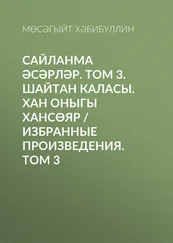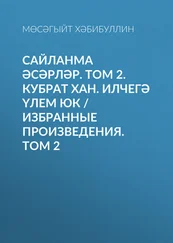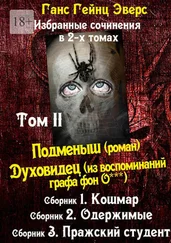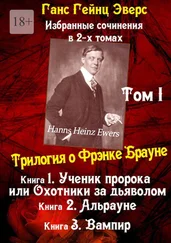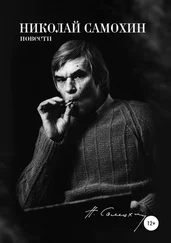Стихи «Дикой воли» весьма заметно отличались по тональности и общей своей направленности от «Яри». Преобладают в этих стихах мотивы грусти и печали.
Мне тяжело, как в первый день,
Как в первый день ночного горя,
Когда впервые пала тень
На ровноту земли и моря…
Так начинается первая из девяти элегий, открывающих книгу. Все они проникнуты горестным сознанием личной неустроенности лирического героя, жизнь которого замкнута в микромире его «расколотой» души и совершенно отрешена от людей и макромира современного общества. Этому герою мнится скорее избавление от рокового «плена» и «тлена» жизни, а также возможность обретения на том, лучшем свете полной гармонии и внутренней свободы.
Осенью 1907 года за перевоз из Финляндии в Петербург «историко-революционного альманаха», выпущенного издательством «Шиповник» и запрещенного к распространению в России, Городецкий был арестован и посажен в тюрьму «Кресты». В десятидневном заточении он написал цикл «Тюремных песен», целиком вошедший в сборник «Дикая воля». Стихи гладко обточенные, ровно журчащие, с глуховатым тоном и погасшим нервом. Стихи, обращенные автором как бы внутрь себя, очень личностные, тоскливые, без выходов во внешний мир. И вдруг в последнем стихотворении «тюремного» цикла — такие строки:
Теперь иное назначенье
Открылось духу моему,
И на великое служенье
Я голос новый подыму.
Но строки эти в сущности оказались только декларацией, не получившей ни подтверждения, ни дальнейшего развития в творчестве поэта.
Книга «Дикая воля», как и следующая — «Ива», не несла в себе значительных художественных открытий. Городецкий шел в фарватере традиционной поэтики, ставшей достоянием обширного круга эпигонов. Он писал быстро и легко, выпуская книгу за книгой, не успевая обновлять запасы своих жизненных впечатлений. Иные стихи его писались без озарения, как бы одной техникой. На них лежит печать торопливости, нетребовательности. Изобразительные краски тускнеют, становятся все более расплывчатыми. Метафора, сравнение или эпитет утрачивают свою характерность и остроту. Риторика то и дело подменяет собой истинное, глубокое чувство. А вдруг проскакивает стихотворение и вовсе сырое, недописанное. Порой поэт повторяет самого себя.
Еще осенью 1907 года Блок с тревогой заметил: «Городецкий совсем не установился, и Бугаев (А. Белый) глубоко прав, указывая на его опасность — погибнуть от легкомыслия и беспочвенности» [31] Блок А. Записные книжки, с. 97.
. Эта опасность недостаточно осознавалась самим поэтом. Шумный успех первых книг вскружил ему голову, и он в известном смысле утратил самоконтроль.
3
1910 год Блок назвал годом крушения символизма. Состоявшиеся весной в «Обществе ревнителей художественного слова» доклады Вяч. Иванова «Заветы символизма» и Блока «О современном состоянии русского символизма» вызвали резкую критику со стороны Брюсова и Мережковского и ускорили давно вызревавший раскол внутри этого течения.
Его художественная программа, как известно, вовсе не сводилась к утверждению культа формы, к защите автономного и самоценного искусства, хотя отдельные писатели и критики-символисты считали именно такое искусство наиболее приемлемым.
Символизм хотел выразить себя не только как явление искусства, как художественное течение, — он считал себя универсальным, целостным, философским мировоззрением, имевшим своей целью, по убеждению Андрея Белого, некое «пересоздание жизни», «пересоздание человечества» [32] Белый А. Символизм. Книга статей. М., 1910, с. 10.
.. Подобный же взгляд защищали, впрочем, каждый по-своему, Блок, Вяч. Иванов, да и многие другие.
Поэзия символизма по своему содержанию и характеру была одновременно и исповедальной и воинственно проповеднической. Подвергая критике те или иные стороны современной буржуазной действительности, теоретики символизма призывали к ее «очищению» от мещанской скверны, к защите культуры от опошления ее своекорыстной моралью господствующих классов. Но все это, разумеется, нисколько не предполагало покушения на основы современного общественного строя. Критика некоторых явлений действительности, ощущение ее трагической неустроенности, непрочности, скептический взгляд на современное общественное бытие — все это прекрасно уживалось у символистов с настроениями пессимизма и ощущением незыблемости самой социальной структуры буржуазно-помещичьей России.
Читать дальше