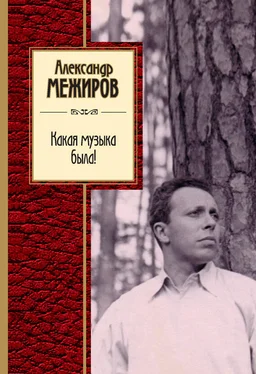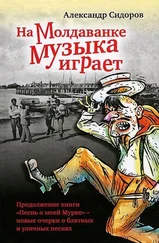Этот старый отель дело свое
Делать привык в темноте.
Эти девки внизу способны на все.
И на все способен портье.
Поднималась – неисчислима,
Как на зов боевой трубы,
Половина Третьего Рима
В полночь, в пятницу, по грибы.
Только все это не охота,
Не рыбалка и не лыжня,
Не грибы, а другое что-то,
Вроде знаменья – знамя дня.
Что-то вроде религий новых,
Что возникли на склоне лет
Без основ и на тех основах,
У которых основы нет.
Из «почтовых ящиков» лезли
Академики на ледник,
Не сиделось в казенном кресле
Грибникам, браконьерам, если
Сын Гермеса вселялся в них.
На природу людей манило,
Прямо в лоно вела стезя,
Но нисколько не изменило
То, чего изменить нельзя.
Вновь попрятались горожане
В распрекрасных своих домах,
Там, где 007 на экране,
Выполняющие заданье,
Полыхают в полупотьмах.
А в лесу, на лыжне проложенной
Частью воинской, в поворот
Лыжник старенький осторожно
Косным шагом войдет вот-вот.
Самый лишний из самых лишних,
На лыжне вполне призовой,
На солдатской, последний лыжник
Крестный путь завершает свой.
И в предмартовский день мороза,
В благодатные минус три,
Он сморкается. Кровь склероза
На лыжню летит из ноздри.
Самое последнее ремесло хвалю…
Григорий Сковорода
Над семью над холмами,
Возле медленных вод,
Помню, Троицкий в храме
Вместе с хором поет.
Петь и плакать – призванье.
И выводит он стих,
А потом в ресторане,
А потом и в пивных.
Начал это при нэпе,
Дань ему отдавал,
Молдаванские степи
Во хмелю воспевал,
Кем он был, этот старый
Человек из пивной,
Обладатель гитары
С дребезжащей струной.
Был хмельным и бездомным
Гражданином страны
Со своим, незаемным
Дребезжаньем струны.
И, зане дребезжало
В той струне волшебство,
Вашей зависти жала
Изъязвили его.
И не левый, не правый,
Не промежду, а вне,
Он для всякой расправы
Был удобен вполне.
(Никакой не любовник,
Уличенный тобой,
А удобный виновник
Для расправы любой.)
За свои за печали,
За грехи, за вины
Вы его уличали,
В чем себя бы должны.
Вы на нем вымещали
Все свои неправа,
А ему не прощали
Волшебство мастерства.
Не давали поблажки,
Позабыв «…не суди»,
Разрывали тельняшки
У себя на груди.
Страшным голосом ровным,
На палаческий лад,
Объявляли виновным:
Мол, во всем виноват.
В том, что гений не гений,
Но призванье имел,
А других прегрешений
Совершить не посмел.
Ваш палаческий метод
Бил его наповал.
Только Троицкий этот
Это все сознавал.
Мы стенаем и ропщем
От людского суда,
Ну, а Троицкий, в общем,
Не роптал никогда.
(Нет ничего отвратней «Бормотухи»,
Поэмки этой. В ней все строчки ту́ги,
Все мысли площе плоского. И все ж
Ее не обойдешь, не обогнешь.
В ней слы́шна неподдельная обида
И за Псалтырь и за царя Давида,
А ежели она и не слышна,
То в этом виновата тишина.
Любой народ – народ не без урода…
Но целиком… На уровне народа…
Что говорить об этом… А толпа
На уровне толпы – всегда жестока, —
Готова растоптать ее стопа
Не только ясновидца и пророка.
Ты – из толпы. И спросится – с тебя…)
Плацкартный… Бесплацкартный… на поминки…
И на крестины… и за колбасой…
И даже просто так… и без запинки
Стучат колеса cредней полосой.
И по лимиту… или без лимита…
И даже просто так… невпроворот
Народу… и случайно приоткрыта
Дверь в зимний тамбур… там любой народ…
Когда религиозная идея,
Которую никто не опроверг,
Устала, стали, о Христе радея,
Низы элиты подниматься вверх.
Не из народа, из низов элиты
Исчадье розни и возни ползло,
Когда из грязи в князи сановиты,
Низы элиты выявляли зло.
Великие традиции оплакав,
Из глубины идущие веков,
Сперва безгрешней были, чем Аксаков,
Киреевские или Хомяков.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу