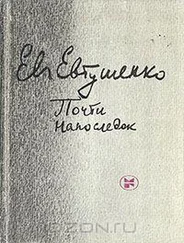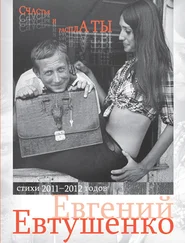И пьют же люди — просто гибель...
Но тощий, будто бы моща,
Морковский Петька из Одессы,
как и всегда, куда-то делся,
сказав таинственное: «Ща!»
А вскоре прибыл с многозвонным
огромным ящиком картонным,
уже чуть-чуть навеселе;
и звон из ящика был сладок,
и стало ясно: есть! порядок!
И подтвердил Морковский: «Е!»
Мы размахались, как хотели, —
зафрахтовали «люкс» в отеле,
уселись в робах на постели;
бечевки с ящика слетели,
и в блеске сомкнутых колонн
пузато, грозно и уютно,
гигиеничный абсолютно,
предстал тройной одеколон.
И встал, стакан подняв, Морковский,
одернул свой бушлат матросский,
сказал: «Хочу произнести!» —
«Произноси!» — все загудели,
но только прежде захотели
хотя б глоток произвести.
Сказал Морковский: «Ладно, — дернем
Одеколон, сказал мне доктор,
предохраняет от морщин.
Пусть нас осудят — мы плевали?
Мы вина всякие пивали.
Когда в Германии бывали,
то «мозельвейном» заливали
мы радиаторы машин.
А кто мы есть? Морские волки!
Нас давит лед, и хлещут волны,
но мы сквозь льдины напролом,
жлобам и жабам вставив клизму,
плывем назло империализму?!»
И поддержали все: «Плывем!»
«И нам не треба ширпотреба,
нам треба ветра, треба неба!
Братишки, слухайте сюда:
у нас в душе, як на сберкнижке,
есть море, мама и братишки,
все остальное — лабуда!»
Так над землею-великаном
стоял Морковский со стаканом,
в котором пенились моря.
Отметил кэп: «Все по-советски...»
И только боцман всхлипнул детски
«А моя мамка — померла...»
И мы заплакали навзрыдно,
совсем легко, совсем нестыдно,
как будто в собственной семье,
гормя-горючими слезами
сперва по боцмановой маме,
а после просто по себе.
83
Уже висело над аптекой
«Тройного нету!» с грустью некой,
а восемь нас, волков морских,
рыдали — аж на всю Россию!
И- мы, рыдая, так разили,
как восемь парикмахерских.
Смывали слезы, словно шквалы,
всех ложных ценностей навалы,
все надувные имена,
и оставалось в нас, притихших,
лишь море, мама и братишки
(пусть даже мамка померла).
Я плакал — как освобождался,
я плакал, будто вновь рождался,
себе — иному — не чета,
и перед богом и собою,
как слезы пьяных зверобоев,
была душа моя чиста...
84
ДЕРЕВЕНСКИЙ
О чем поскрипывает шхуна?
Не может быть, что ни о чем,
когда, дыша машиной шумно,
несется в сумраке ночном.
О чем под скрип ее вздыхает
матрос, едва успев заснуть,
и что сейчас ему вздымает
татуированную грудь?
Когда, вторгаясь в тучи косо,
елозя, ерзает бизань,
во сне усталого матроса
вдруг прорезается Рязань.
И шхуна тросами, снастями
скрипит, скрипит ему впотьмах
о снеге детства под санями,
о кочерыжках на зубах.
Он просыпается не в духе.
Он пляшет с мрачным криком «Жги!..»
внутри разрезанной белухи,
чтобы прожирить сапоги.
85
Он от команды в отдаленьи
молчит, насуплен и небрит.
«В деревню хочется, в деревню..
он капитану говорит.
И вот в избе под образами
сидит он, тяжкий и хмельной;
и девки жрут его глазами —
аж вместе с бляхой ременной.
Он складно врет соседской Дуне
что, мол, она — его звезда,
но по ночам скрипит о шхуне
его рассохлая изба.
чуть-чуть побитый молью
на плечи просится бушлат.
«Маманька, море тянет, море...»
глаза виновно говорят.
И будет он по морю плавать,
покуда в море есть вода,
и будет Дунька-дура плакать,
что не она его звезда.
Но, обреченно леденея,
со шхуны в море морем сбит,
«В деревню хочется... в деревню
он перед смертью прохрипит.
ТРЕТЬЯ ПАМЯТЬ
II
ТРЕТЬЯ ПАМЯТЬ
У всех такой бывает час:
тоска липучая пристанет,
и, догола разоблачась,
вся жизнь бессмысленной предстанет.
Подступит мертвый хлад к нутру.
Но чтоб себя переупрямить,
как милосердную сестру,
зовем, почти бессильно, память.
89
Но в нас порой такая ночь,
такая в нас порой разруха,
когда не могут нам помочь
ни память сердца, ни рассудка.
Уходит блеск живой из глаз.
Движенья, речь — все помертвело.
Но третья память есть у нас,
и эта память — память тела.
Пусть ноги вспомнят наяву
и теплоту дорожной пыли,
и холодящую траву,
когда они босыми были.
Пусть вспомнит бережно щека,
как утешала после драки
доброшершавость языка
всепонимающей собаки.
Читать дальше