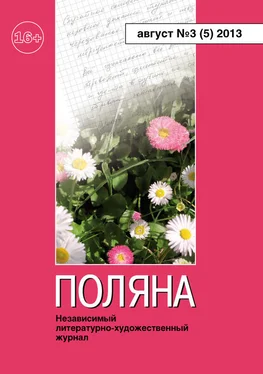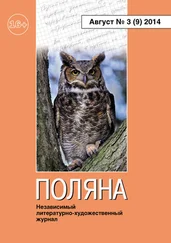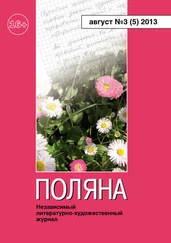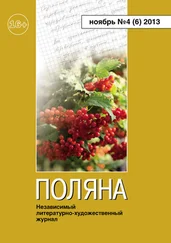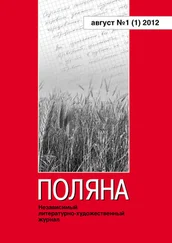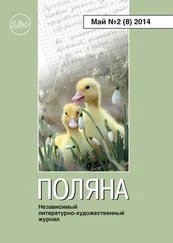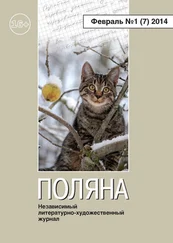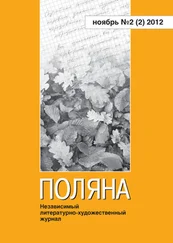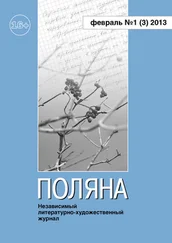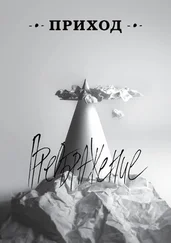Следующим вечером Пятиплюевы отправились на Кузнецкий.
Современное искусство сулило настоящее зрелище. Зал был полон.
С грохотом, от которого завибрировали стены, стулья и сидящие на них зрители, взвыла фонограмма, откуда-то повалил дым, и на залитую разноцветными огнями сцену выскочила певица в прозрачном трико, галифе и сияющих ботфортах. С криком: «Витька, добавь ревера!» она пустилась в пляс и запела с душераздирающим хрипом.
Пятиплюев застонал и схватился за голову.
– Бежим, – прошипел он жене, вскакивая с кресла и выбегая из зала.
Ночь прошла в бессоннице и тщетной борьбе с мигренью. Пятиплюев выпил коньяку, и только после этого ему удалось уснуть.
Всю следующую неделю он был мрачен и неразговорчив. Даже куриное филе в панировке, свиная отбивная и фаршированные перчики со сметаной не могли облегчить его страдания. И только после домашнего кролика, начиненного чесноком и обложенного по бокам запеченным в духовке картофелем, Пятиплюев вновь почувствовал себя человеком.
Жизнь пошла своим чередом. Казалось, ничто не напоминало о погубленных выходных. Но в конце недели Нятиплюев изрек глубокомысленно:
– Дорогая, искусство может и подождать. С возрастом слух ослабевает, и мы будем не столь взыскательны. А пока нам необходимо заниматься спортом. Движение – это жизнь! Завтра мы отправляемся кататься на лыжах…
Жена, стоя возле плиты, где на шипящей сковороде томилась фаршированная грецкими орехами и черносливом индейка, которую особенно любил Пятиплюев под клюквенным соусом, одарила его сияющей улыбкой.
Не хлебом единым жив человек…
Примечания
1
См. Словарь Академии Российской. Ч. 1. – СПб.: Императорская Академия Наук, 1789. – С. 853. (Далее – САР1). «Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный» (далее – САР2), однако, приводит более сдержанное толкование переносного значения: ‘нерасторопный, вялый’ (САР2. Ч. 1. СПб.: Императорская Академия Наук, 1806.-С. 672–673).
2
Любопытно, что САР переносное значение этого существительного – ‘хитрый, лукавый человек (обычно женщина)’ – не фиксирует, хотя в литературе XVIII столетия такое словоупотребление не редкость (см.: Словарь русского языка XVIII века. – Л.: Наука, 1984 —… Вып. 11. Крепость – Льняной. – С. 185). В САР2, правда, отмечается, что лиса «зверь хищный , лукавый…» (САР2, Ч. 3, 1814. – С. 567). Как на само собой разумеющуюся соотнесенность образа лисы с льстецом или обманщиком, избавляющую «от труда прибегать к излишнему объяснению», указывал В.А. Жуковский в статье «О басне и баснях Крылова» (1809) {Жуковский В. А. Собрание сочинений: В 4 т. – М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1959–1960. Т. 4: Одиссея. Художественная проза. Критические статьи. Письма. – 1960. – С. 403). Граф Хвостов в своей притче «Ворона и сыр» (1802) прямо пишет:
Лисица к сыру подоспела
И лесть, как водится , запела…
3
За исключением особо оговоренных случаев курсив везде мой. – А. К.
4
Выготский Л. С. Психология искусства. – 3-е изд. – М.: Искусство, 1986. – 573 с. – С. 150.
5
Там же.
6
Трудно сказать, какова была среди общего количества детей XIX века доля «наклонных ко лжи и лукавству», но не боюсь ошибиться, заявляя, что в XX и XXI столетиях таковых немало.
7
Правка, внесенная Крыловым в текст басни, исключительна важна и показательна – в своем месте мы рассмотрим ее попристальнее.
8
Фомичев С. А. Последний русский баснописец // XVIII век. Вып. 20. СПб.: Наука, 1996. – С. 269.
9
«Крылов <���…> учитывает все оптимальные находки, отложившиеся в многочисленных обработках традиционного сюжета, вплоть до отдельныхудачных выражений» (Фомичев С. А., указ. соч. – С. 269).
10
В приведенном в качестве эпиграфа письме В. А. Олениной от 22 июля 1825 г. Крылов замечает: «… если б я знал, что… <���вы> мои стихи перечитываете <���…> то бы я сделался спесивее гр. Хвостова, которого, впрочем, никто не читает ». Как видим, Крылов слегка лукавит: творения «привилегированного фабриканта галиматьи» (Жуковский) он читал, и весьма внимательно!
11
Капленко В. Н. Анализ односюжетных басенных текстов // «Русский язык» (газета издательского дома «Первое сентября») № 22/2004.
12
САР1 4.5,1794.-С. 424.
13
САР1 4.5,1794.-С. 426.
14
В. Н. Капленко, совершенно справедливо утверждая, что «сюжет “Вороны и Лисицы” <���…> до И. А. Крылова разрабатывался В. К. Тредиаковским <���…> и А. П. Сумароковым» (Капленко В. Н., указ, соч.), забывает об интерпретациях М. М. Хераскова и Д. И. Хвостова.
Читать дальше