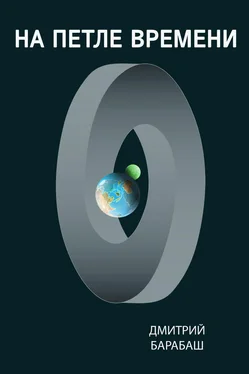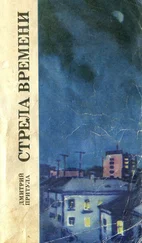27
Ах где они?! Ищи – свищи
тех страстных бабочек порханья,
румянцы, спертые дыханья,
альбомы с тайнами души,
прекрасных принцев ожиданья,
и ручек нежные дрожанья
под простыней в ночной тиши…
28
Мне не в чем укорять героя.
Зачем болеть и голодать,
коль можно яблоко сорвать
и съесть, не нахлебавшись горя.
Цинично с глупостью играть?
Еще циничней – ей поддаться.
Раз дурочки хотят играть,
так почему не поиграться?!
Они играются всерьез!
Они готовы прыгнуть с крыши!
Принц их на остров не увез,
на бал их не умчали мыши…
Их жизнь не потому скучна,
вульгарна и как ил кромешна,
что мудрый принц их свел с ума.
Когда б Офелия безгрешна
была сама…
Она б с ума…
И так смешно и безутешно
всему назначена цена.
Лолита! Тоже мне Лилита…
элита женского ума.
До Беатриче ль Боттичелли?! —
уж лучше посох и сума.
29
Итак, о женах.
Было их штук шесть,
а может быть, и восемь.
Все в романтическом гипнозе,
в быту и как-то между книг,
где оставались промежутки.
А чтоб занять их скорбный ум
наш друг плодился. Детский шум
глушил сомненья и с похмельем
был очень схож. Отцовский нож,
что плотницкий, стругал из плоти
черты знакомого лица.
Они как на автопилоте
стремились повторить отца.
И если первую забаву
я понимаю – ласки баб
смягчают каверзный ухаб
судьбы. То шустрое потомство —
котом, мурлычащим в ногах,
хвост задирает и смеется:
«Ты скоро обратишься в прах,
и все твое ко мне вернется».
30
Тургенев! Трах да тибидох.
Зачем ему отцы и дети?!
Уроки, зубы, ласки, плети
и геморрой пока не сдох.
Как будто бы он думал так,
что «воплотится в каждом чаде
глава неписаной тетради,
вершина призрачной горы,
к которой я стремлюсь добраться.
И та, которая за ней,
и те, которые за ними, —
вершины мыслящих детей!
Я на земле останусь в сыне!
И буду дальше продолжать
к небесным высям восхожденье.
Так шли мои отец и мать…
Но, черт возьми, законы тленья!
И время узенький удел!
И кандалы на бренной мысли…
Чего же я от них хотел…
и почему они прокисли,
те щи больничные…
и вкус
металла на капусте
31
метла над улицей светала,
и в каждом взмахе листик грусти
ложился мне на одеяло…
Вот санитарка записала,
что я хочу писать о Прусте…
Она вчера запеленала
меня в крахмально-синем хрусте
с улыбкой детского оскала,
когда наслушалась в Ла-Скала,
как Демис Руссос пел о чувстве,
ее халат белее сала
и Вуди Алена в искусстве.
32
С детьми уже, хлебая горя,
Лжедмитрий приближался.
Воря
ему казалась неприступней
Днепра и Волги.
Злые волки
объеденной игрались сту́пней
Сусанина.
Дни становились злей и судней.
Одетый в шкуру печенег
ел печень наших серых будней.
И в небо капала с ножа,
как снег, над льдинами кружа,
по капле каждая секунда.
В дежурном свете, нежно ржа,
к звезде, усевшись на верблюда,
копытом оставляя след,
и там – невидимы при этом,
шли ангелы… Автопортрет
вождя смотрел на нас,
секретом
и страхом собственным страша.
Когда б писал во сне, поэтом
я стал бы.
Черная дыра
рассвета всасывала мысли,
способность прыгать тут и там,
по крышам лазить и кустам
взбивать нахохленные перья.
Реальность гаже и тошней,
в ней невозможно даже дней
порядок лестничный нарушить.
Когда я вышел из дверей,
я оказался весь снаружи.
И силюсь вспомнить и решить
недорасслышанное слово.
Я знаю, что оно основа,
но снова начинаю, снова —
куда ступать и не грешить?
33
Итак, мы в ночь к одной из жен
таксомотором в Подмосковье.
Багажник пивом загружен,
и по щеке слеза любовья
течет за ворот шерстяной.
Он был растроган или пьян,
петлял водитель между ям,
нас наносили на экран
лучи летящих встречных фар
сквозь морось и машинный пар.
Чем дальше осень от Москвы,
тем первобытней слякоть ночи.
И если отключить мозги,
то за окном уже ни зги,
и только двигатель клокочет,
и фары серебрят виски,
чертополохнутых обочин.
Пробиться к свету без столбов
фонарных мы уже не можем,
как будто проводок проложен
из центра по ложбинкам кожи
и по морщинам узких лбов
до зренья, до его основ.
Электрик властен и безбожен.
34
Гораздо лучше по утрам,
когда трава одета в иней
и в сером небе облак синий
скользит как шарик по ветрам.
И куст заснеженной полыни,
как хворост в сахарной муке,
ни грустью зябкою простужен,
а вышел в поле налегке,
где никому никто не нужен,
где никому никто не важен,
где никому никто не страшен.
Вот так свободно, налегке,
все оставляя вдалеке,
он отражается в реке,
а не в застывшей за ночь луже.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу