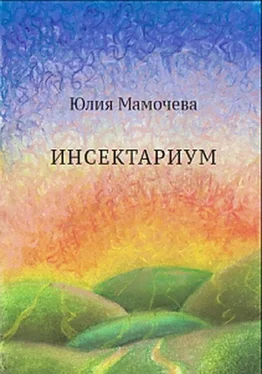Чуть поодаль некая длинноволосая грация, оскальзываясь на тонком каблучке, неловко роняет сумочку. И восклицает, что терпеть не может дождь.
* * *
Вчера мы покинули один прекрасный русский город, оставив в его воздухе печать целого своего дня. К несчастью своему и стыду, сейчас я никак не могу вспомнить названия этого милого и тихого пристанища; может быть, и вы когда-то бывали там, гуляли по светлой бархатной набережной, напитанной дыханьем Волги, сидели на теплой и свежей земле посередь хоровода деревянных изб, прочно скрытого шеренгою белокаменных особняков. Чудное место. Если вы не видели его холмов воочию, то теперь непременно узнаете с моих слов, оказавшись там в продолжение своей жизни; образ его проступит в вашей памяти на манер пышных барельефов, призрачной каруселью а-ля дежа вю вскружит голову. В этом городе прежде жил художник, добрый сын русской природы и верный ее певец. Знаете, имя его, кроткое родовое имя, всегда напоминало мне о вольном полете да о могучем, златоволосом царе фауны. Но о нем меньше. Более — о той стороне груди, в какой стучит сердце. Более (с какой-то щемящей и счастливой болью) — о жизни, о самой жизни, которую английские наши братья нарекли таким любовным именем. О жизни, оканчивающейся лебединым танцем первейшей триады. Мы, кажется, уж целую жизнь назад отчалили от моей закатной пристани города, имя которого на время покинуло меня. Живописец сидит на берегу с планшетом на коленях, свесив ноги в хрустальную воду. Когда-нибудь я звонко и колокольно назову вас, прозвеню каждый звук ваших хрустальных названий. Как жаль, что будем мы тогда далеко. Живописец пишет живо и влажно, он машет нам искупанной в радуге рукой. Я вижу его огромную, с целый нагорный собор величиною, фигуру — статную, легкую, тонкую. Сквозь нее просвечивает абрис русского края. Бликами ласкает ее музыка Чайковского, горящая на плоской вершине рояля кустистым костерком вечного пламени. Огонек благостно танцует, повинуясь дуновениям моей возлюбленной, милой сердцу, славной фортепианной нимфы.
* * *
Афродита вышла из бурных морских пучин, Афина — из черепа Зевса; мою же мерцающую Музу вчерашнего вечера породили бездонные моря, что плескались некогда лазурностью звездного таланта в голове Самого из всех наших Ильичей. Прошедшим закатом на теплоходе давали его фортепианный концерт — в салоне со странным и выкрученным рюшечным названием, на главной палубе. В салоне окна чудные — от потолка и до самого пола, во всю стену шириной; видно Русь кругом, как если бы парили мы на рекою в большом летучем стеклянном кубе. Чтобы не разрушать этой моей выдумки отсутствием панорамы под ногами, кто-то укрыл кубово дно толстым ковром, по которому вежливые вояжеры расхаживают в лакированных ботинках и подкаблученных туфельках. Здесь все веселы и богаты, пассажиры этого теплохода заплатили очень дорого, и теперь развлекаются в ресторанах, барах, салоне, на палубах и в солярии. Они курят и болтают, пьют и танцуют, слушают забавные и благозвучные экзерсисы мировых классиков. Пассажиры едят много вкусной и сытной еды, загодя дорого оплаченной, а милые мелодии здорово помогают ее переваривать. Очень хорошая штука — музыка. В салоне запрещается курить; видимо, от этого любители вкусного и прекрасного восполняют недостающее продолжительной, хотя и довольно негромкой дружескою беседой, которая, однако, возбуждает в угрюмом пианисте горячий дух сражения, оскорбляя пианистово неоспоримое мастерство. Помню вчерашнюю вечерю: его рыбье лицо шло разноцветными пятнами; пальцы с каким-то нечеловеческим усердием выгоняли из горящих клавиш целые испуганные семьи всклокоченных звуков. Бросая вещи на ходу, спасаясь от вражьего полчища стреляющих молниями пальцев, звуки спрыгивали с высоты рояля на ворсистое поле ковра и шныряли, как крохотные человечки, в его многотравье, заставляя некоторых дам инстинктивно поджимать ножки. Казалось, пальцы музыканта первейшим долгом своим считали именно окончательное порабощение монохромного простора, выдворение непременно всей толпы звуков из ее прибежища. Вынужденные таким образом повышать тон беседы до театрального шепота, присутствующие неизменно взрывались шквалом аплодисментов, когда последний тоненький звученок, еще совсем дитя, со слезами обиды и ужаса оставлял свои законные владения, чтобы навеки раствориться в одеколонной дымке вечернего салона, залитого золотом умирающего солнца. Пианист встал резко и как-то важно; грохот рухнувшей его волею крышки рояля — звук падения крепостной стены взятого города. Мой вечный огонь, весело потрескивавший на роялевой крыше в течение всего представления, теперь испустил дух и был оплакан мною.
Читать дальше