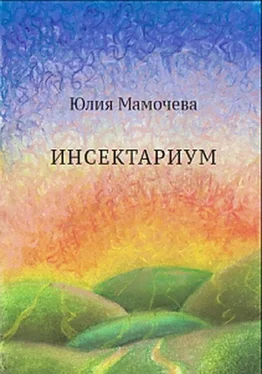Станет. Стянет. (Стянет саван будничности, конечно. И прольётся.) Стонет. (Конечно, стонет будничность — когда стянется и упадет расстёгнутым одеяньем, а вечное хлынет во все сторонушки, снося ко всем чертям черту, как дамбу. И тогда море без дна станет; везде. И будет всё — бездна.)
— Господи, тогда ты действительно будешь?
— Излишне будить бдящего.
— Я совсем запуталась.
— Друг, эти путы ТЫ выковал себе. Выйди. Сбрось. Разлейся. Я есть. Я — здесь.
* * *
Иешуа говорил, что все люди — добрые. Добрый человек, мимо тихо голодной девочки проходя с неведомооткудошным пирожным, говорит: «Посмотрите на берег, обязательно посмотрите на берег!»
Он шёл от кормы до самого носа, по тёплому, полночно безлюдному, застеленному уютным ковриком коридору. Он шёл в свою каюту, увлекая на тоненьком, как мой волос, блюдечке неведомооткудошный вечерний самокомплимент; шел целенаправленно, деловито и скоро — однако, заметив странную худую девочку, посоветовал ей выйти. Девочка поймала брошенное его предложение и, шатаясь на каблуках в дурацком и неуместном платье до пола, — бессловесно доковыляла до выходной двери; бессовестно одарила ее той силой, с которою сама притягивалась к земным недрам; вывалилась на темную теплоходову палубу.
Ночь, милая, холодная, густо июньская ночь дохнула на меня многозвёздным ураганом: то Волга ретиво гудела и отплёвывалась своею плотью под дерзкими винтами теплохода. Инородная четырёхпалубная рака, гудящая роем в добрую тысячу любителей оправдать безделие, должно быть, очень пугает великую Волгу. Букашки жующие, спящие, играющие в карты и на нервах, думают, что покорили твои воды; они гордятся мелочной гордостью всадника, что вот как гордо едут на тебе верхом. Я — конь; я взбрыкиваю и плююсь пеной, а теперь вскидываю копыта — и человечишка хрипит, целуя землю изломанными коленами. Ты тоже плюешься пеной, пеной твоих гудящих легких; сейчас поднимешься на дыбы — и букашки начнут проклинать тебя, смешиваясь с твоей голубою кровью. Волга, спасибо, что ты такая сильная; но скучно тебе, вольной, скучно от этой скученности самозваных поработителей. Ты не потопишь нас — не из покорности к приручившему, но от милостивого снисхождения к порочному и непрочному. Милость твоя суть малость между оседлавшимся и оседланным, которая заковывает в стремена седаковы ноги. Порочные, бедные порочные пленники нерушимых казематов гедонизма! Не мы ли связаны накрепко канатами гордыни, Гордиевыми гордынными канатищами? Злом, как узлом. Не мы ли? Не мыли нас Волгины водушки, не полоскали дочиста. Не поласкала помыслы наши мать-река по-матерински.
* * *
Волга выла и валами, как вилами, боронила свою грудь, рыдая в небо влажными ртутными брызгами. Кто-то, прищурившись на один глаз, глядел тихо и сострадательно Луною на бессонную и гневливо-бессильную тоску её. Ветер был такой мощи, что без труда месил необъятщину; мокрые его долгопалые ладони задирали сарафан Волги; длинный подол платья девочки мстительно рвался прочь, взмахивал пестрыми крыльями. Девочкины острые коленки храбрыми мальчишескими синяками хохотали в Луну; некрасивое скуластое лицо, наверное, сделалось искренне прекрасным, когда последний скучающе-снисходительный взгляд, на нем ввечеру осевший, был смыт животворной звёздною щелочью.
Я смелая. Я, шатаясь, дохожу до самых перил сквозь вездешный ветрище, как впервые поднявшись с постели от неизлечимого недуга. Я хватаюсь за скользкую грань между Ней, Волгою, и нами, словно за последнюю спасительную тростинку во всем губийственном море; мой дед так не сумел: он не вернулся домой. Я не люблю моря. И воды — почти не люблю. Но, черт возьми тебя, зачем же ТЫ любишь меня насильно — зачем залюбливаешь до бессилия?!
* * *
— «Посмотрите на берег! Обязательно, непременно взгляните на берег!» — сказал добрый человек. Я верю ему и смотрю; смотрю до рези в глазницах — сквозь Волгины слезы, сквозь хохот и ржание темнорожего урагана. Берег бур и холмист, смутно и бессмысленно подсвечен жизнью неизвестного мне города. Берег горд и свободен, Бог гладит его по темени, темень смешивается с буйством иллюминации и нежит его, как родная мать. А моя мама далеко, сейчас она устала и спит. Она заперла дверь в свой дом и легла. Она не даст мне кануть: мама никогда не забывала помолиться за меня перед тем, как заснуть до утра. Значит, девочка — в броне, в добрых противобуревых латах, которые её удержат. Мама не умеет меня не помнить.
Читать дальше