Так, смирясь или руки в боки,
безымянны и одиноки,
мы пройдём в стрежевом потоке
неизмеренной глубины —
доморощенные пророки,
местечковые плясуны…
Но досада буравит темя:
мол, ещё остается время.
чтобы ногу – в златое стремя,
а железного не приму.
Дело вовремя – не беремя,
коль по норову да уму.
Коль поётся – без перепева,
безымянно – именовать!
Коль не любится королева,
так супругу короновать!
А поётся – в пути раздольном,
а корона – во граде стольном
да в биении колокольном
в раззолоченном во дворце
тяготой на челе невольном
да заботою на лице…
Вот я, милая, и катаюсь —
то ли, гордостию питаясь,
удоволить её пытаюсь,
то ли дело себе сыскать,
чтобы силы, пока остались,
суетою не расплескать.
Но столица взирает строго:
мол, одна – а наезжих много…
Замыкает кольцо дорога.
и опять во дворе стою.
Остаётся поверить в Бога
и во близость к нему твою.
Хлопоча поутру на кухне,
ты боишься, что мир твой рухнет,
и полуденный свет потухнет,
хохотнут за окном сычи,
и остынет постель в ночи,
сердце мёртвой тоской набухнет.
Или всё нажитое – комом,
чтобы в городе незнакомом
снова обзаводиться домом
и чужих узнавать людей,
что привыкли к иным законам —
откровеннее и лютей…
Но покуда ценой такою
не куплю своего покоя.
Хоть порою до паранойи
бессловесная давит глушь,
остаюсь. Я отец и муж
в этом городе над рекою.
Всё имеет и цель, и суть,
основанье и приращенье,
если даже столетний путь
завершается возвращеньем.
Всё имеет и свет, и след,
осязаемо и упруго,
если двадцать протяжных лет
Пенелопа ждала супруга.
Но, грядущим певцам в пример,
допускать не желая фальши,
хитроумный слепец Гомер
не пропел, что случилось дальше…
2000 г.
Из трещинок и нор
невемые года
в ладони старых гор
стекается вода —
как будто человек,
дав хлеба лошадям,
подставился навек
светилам и дождям.
В жары да холода
заветрел, употел —
хотел умыться, да
уснул, не утерпел.
И, влагой поглотя
несметные срока,
сбегает по локтям
прохладная река…
Ай, воля-голытьба!
Да много ли труда,
коль сгнили желоба,
исчезли привода?
Душе да голове
по нынешней поре —
лишь кони на траве
да церква на горе,
коровы на мостах
в ошмётках кизяка,
да речи на устах
в домах из листвяка,
да шедшие сюда
утеху обрести,
покуда есть вода
в родительской горсти…
«Стрижи, как будто хлопья сажи…»
Стрижи, как будто хлопья сажи,
и хлопья сажи, как стрижи,
почти неразличимо схоже
закладывают виражи.
Кругом подвох, везде обманка —
ни в чём незыблемости нет:
едва уверился – на свет
уже является изнанка…
Но с приближением концовки
припоминается и то,
как мама зимнее пальто
сдавала для перелицовки
и как великие умы,
дивясь, разглядывали снимки
обратной стороны Луны —
совсем не тёмной половинки…
Слово знаю – Куросан.
Смутно да красиво…
Куросан – не круассан
и не Куросио:
в небо выйдя, говоришь
с целой степью разом,
хоть рукой подать – Париж
с Фершампенуазом.
От недюжинной войны
дюжинного года
эхо прежней старины,
дальнего похода.
Да иная новина
меньше ли жестока?
Приходили имена
после и с востока…
Упирается быльё
разворошенное:
это местное, своё,
доморощенное…
Кочевали степняки
здесь – да миновали.
Казаки да мужики
не именовали.
Ветерок по волосам,
перекат лопочет…
Куросан так Куросан —
кура перескочит.
Временами пролились
молодые воды,
языками заплелись
разные народы —
скотоводы да купцы,
пахари да стражи…
А бывали огольцы,
что ныряли даже!
Так рассказывал отец
в давнем разговоре:
разбегается малец —
по колено море…
Проезжаю мимо сам —
сердце отдыхает:
и неполон Куросан —
а не пересыхает.
«Бабьим летом на сытой ярмарке…»
Бабьим летом на сытой ярмарке
в яр да морочный раскардаш
продавал наливные яблоки
избоченившийся торгаш.
С прибауткою да прибавкою
всё нахваливал, зазывал
и промеж разговора бабкою
громко маму мою назвал.
Будь варначьи дела посильными —
обязательно бы убил…
Будь те яблоки молодильными —
обязательно бы купил.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


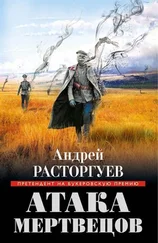





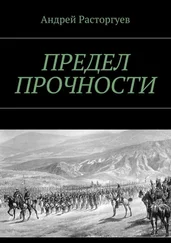
![Андрей Расторгуев - Контракт на одну битву [litres]](/books/399426/andrej-rastorguev-kontrakt-na-odnu-bitvu-litres-thumb.webp)


