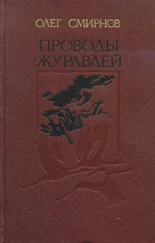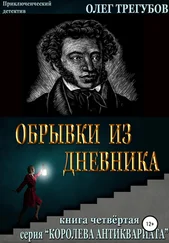И тише ты уже не будешь
воды, гудящей в трубах снова.
А успокоишься в гробу лишь?
Но нарвались не на такого! —
кто перед тем не скажет Слово…
А скажешь – что? Мол, одиночество
мешает утру наступить,
что жить, что пить уже не хочется
и что не хочется не пить.
Что я, я, я – вот слово дикое,
и смерть действительно придёт.
Что – червь , что – Бог … Что, горе мыкая,
стал населением народ.
И что-то про зарю вечернюю ,
любовь последнюю, про то,
что жизнь пройдёт, как увлечение,
и сам пройдёшь, как конь в пальто.
Что мир насилья мы разрушим и
кто был ничем, тот станет всем.
(С неоцифрованными душами
у Бога множество проблем.
И снова жгут траву забвения ,
а от неё ужасный дым…)
Ну и – про чудное мгновение:
мол, дай вам Бог того же, но – с другим .
Ни к женщине, ни к Всевышнему
не обращайся, брат.
Фемина услышит лишнее,
а наш Господь глуховат.
Но если всё туже дышится, —
вон из подлодки! Вмиг
выпади, словно ижица
из словарей и книг.
Как будто тебя и не было —
это ли не восторг?!
Где ты? Земля ли, небо ли? —
Здесь неуместен торг.
Ну а когда… Тогда скорей
отсюда!.. Да в сквозняк дверей
глядят из древности своей
плезиозавры фонарей…
Здесь Ты – это не Она, а собирательный образ б. сов. интеллигента, у которого кризис среднего возраста совпал с идеологическим и моральным кризисом государства и растерянной невнятностью общества. Так же, как в поэме «Удалённый доступ» (впервые опубликованной в «Новом мире» в 2002 году).
Но в этом собирательном Ты пребывает и сам автор. В конце концов, он жил не только в переделкинской сторожке, не только в московской квартире Давида Самойлова и на «крейсере “Очаков”» Юрия Щекочихина, не только в ижевских деревянном доме (в составе большой семьи) и в полученной отцом от завода (где тот был главным технологом, замначальника производства…) двухкомнатной хрущобе. Автор и сам снимал жильё в Москве. А переменив несколько адресов, лучше узнал этот город.
Но впервые поэму «На небесном дне» автор читал не в Москве, а в родном Ижевске – оставшимся там друзьям во время встречи Старого Нового года.
Лучше бы эту ночь автор провёл не с ними, несмотря на радость общения, а со своим отцом, который тогда уже не вставал с постели и на все вопросы отвечал односложно – ну и пусть односложно!
Утром 14 января 2012 года автор видел своего доброго, искреннего и прямодушного отца в последний раз. Потом уехал в Москву…
Но всё это уже не имеет никакого отношения к поэме «На небесном дне», написанной в конце 2011-го – начале 2012-го.
Автор ещё успел рассказать о ней своему старшему другу и главному в последние годы для него слушателю и критику Станиславу Борисовичу Рассадину, «писателю о литературе». Но прочитать или показать Рассадину новую поэму уже не успел…
Весь «роман в поэмах» уместился по времени написания между датами 1976 и 2012. Когда, ещё не понимая, что пишет, автор его начал («Переулок»), ему было двадцать лет. Когда закончил – пятьдесят пять. Поэма «Лесенка», жанр которой автор определил как «Вместо эпилога», написана раньше последней главы – в 2003 году.
До сих пор «Лесенку» автор иногда считает главным из того, что он написал. Но автор не имеет преимущественного права судить свои произведения.
А по душевной склонности ближе всего
мне, наверно, была эта лесенка из райсада,
к полумёртвой воде ведущая, волшебство
между листьев скрывавшая, —
так и надо.
А вела она к омуту, и на пути
ей встречался мусор вялотекущей жизни.
И сидел я на ней, полусломанной, впереди
тяжелела вода,
позади – пауки и слизни.
Они что-то такое делали, что назад
возвратиться нельзя было.
И вещали
на ступеньках её мы с тобою, брат, —
прямо в пустоту, что была в начале.
Это ли соседство устраивало меня —
или недвижность воздуха
и возможность
выпить горькую чашу на склоне дня
и понять простую, как тыква, сложность:
всё же как-то надо так
на деревяшку сесть,
чтобы не помешать появляющимся пешеходам,
вздумавшим путь по лесенке предпочесть
остальным, проложенным всем народом.
Надо так поставить сосуд с весёлой водой,
чтобы с ним не скатиться в обнимку
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
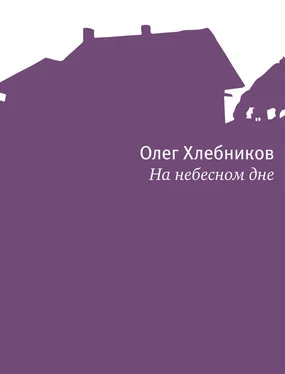
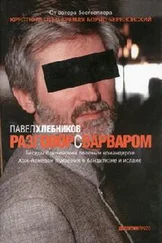


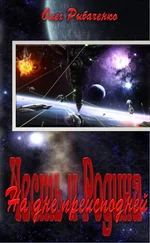

![Олег Хлебников - Заметки на биополях [Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве] [сборник litres]](/books/387936/oleg-hlebnikov-zametki-na-biopolyah-kniga-o-zamecha-thumb.webp)