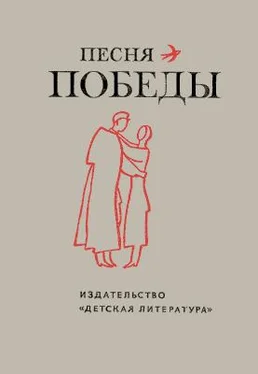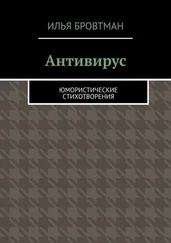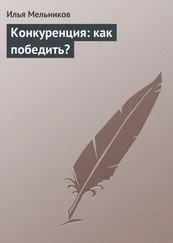Беспристрастно, как птица с вершины полета,
без добра и без худа, без правды и лжи
я гляжу на бегущие в рвах и болотах,
на шуршащие в скалах ничьи рубежи.
Зеленеют солдаты. Торжественно мокнут.
Полосатый шлагбаум ложится на путь.
А в ничейном кустарнике птицы не молкнут:
всепланетные песни терзают им грудь.
Вечереют солдаты. Торжественны лица.
Только я беспристрастен, как каменный пик.
...А земля, будто в трещинах, в этих границах,
подо мною, растущим к звезде напрямик!
Собираю глазами наземные краски,
отпираю себя, словно ржавый замок,
и... срываюсь! И бьюсь!
Не могу беспристрастно...
И на русскую землю валюсь, как щенок.
Обнимаю корявую старую вербу,
поднимаю над полем себя, как свечу...
И в стальную, пшеничную, кровную — верю!
И вовек никому отдавать не хочу.
Война меня кормила из помойки:
пороешься и что-нибудь найдешь.
Как серенькая мышка-землеройка,
как некогда пронырливый Гаврош...
Зелененький сухарик, корка сыра,
консервных банок пряный аромат.
В штанах колени, вставленные в дыры,
как стоп-сигналы красные горят.
И бешеные пульки, вместо пташек,
чирикают по-своему... И дым,
как будто знамя молодости нашей,
встает над горизонтом золотым...
Начинается день усталостью.
Поясничными злыми болями.
Это значит, что дело к старости,
К отголоскам войны тем более...
Что-то колет в боку и в печени.
Шестьдесят годков за плечами.
Восемь раз в медсанбатах леченный,
Больно свыкся ты, дед, с врачами.
Что ли, будешь лежачим к завтраму,
Чтоб весь дом за тобой ухаживал?
Хоть с косой в руке, хоть на тракторе
Впереди других, помнишь, хаживал?
Или все на земле по-мирному,
По-любовному, по-сердечному?
Где же совесть твоя настырная —
Оборона твоя всевечная?
Уж не вздумал ли кто вломиться
С этой хвори твоей небдительной!
Кто поможет Москве-столице
Русской сметкою удивительной?
Кто, пропахнувший потом-порохом,
В тех краях, что куда не ближе,
За Россию сочтется с ворогом,
Свободя города-парижи?
Кто мундир отутюжить выучит
К дню парадному, дню победному?
Кто дровами деревню выручит?
Без тебя как без рук мы, бедные!
Кто полюбится лучшей девушке?
С фронтовым дружком хватит лишнего?
Вот какой ты здоровый, дедушка,
Ус ржаной, борода пшеничная!
Молодецкой статью да норовом
Ты и мне, замужней, понравился.
Так лечила я деда хворого,
Чтобы в память вошел, поправился!
Накануне конца той великой войны
Были вешние звезды видны — не видны
За белесою дымкою ночи.
В полусне бормотал настороженный дом,
И стучала морзянкой капель за окном —
Вопросительный знак, двоеточье...
Ветер в трубах остылых по-птичьи звучал,
Громыхал ледоход о щербатый причал,
Пахло сыростью из подворотни,
А луна, словно сталь, и темна и светла,
По небесной параболе медленно шла
И была, как снаряд на излете.
Она сейчас лишь в полной силе —
ее начало в мелочах.
Меня и в ясли здесь носили,
водили за руку в очаг.
Мы здесь дрались на звонких палках,
и стекла били заодно,
и собирали медь на свалках,
чтоб лишний раз сходить в кино.
Любовь... теперь краснеешь даже
(от злой солидности спесив),
любил я больше Эрмитажа
наш рыже-голубой залив!
Босых, летящих пяток вспышки
и ветер брызг до облаков.
Любовь...
Я был еще мальчишкой,
жил в мире грез и синяков.
Еще не ведал силы властной
и удивился ей потом,
когда на стол с обивкой красной
залез безрукий управдом.
Он громко всхлипнул:
— Все же надо
Из Ленинграда уезжать... —
Зима угрюмая,
блокада
и умирающая мать...
Визжали в небе бомбовозы.
Любовь.
Ее я понял вдруг,
когда к щекам примерзли слезы
в теплушке, мчавшейся на юг.
Потом, как будто солью к ране,
ты боль горячую осиль,
едва увидишь на экране
Адмиралтейский тонкий шпиль.
Читать дальше