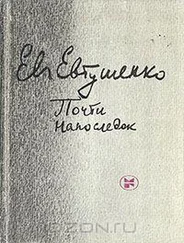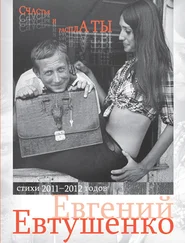Если цензура сталинского времени была топорной – и действительно орудовала не слишком тонкими инструментами, то цензура послесталинская стала гораздо изощреннее и действовала при помощи целой системы микроскопов, луп, идеологических сканеров, скальпелей, ланцетов, пинцетов. В повышении читательской культуры цензоров прежде всего «повинны» поэты моего поколения. Сначала мы легко обманывали цензоров названиями стихов, якобы переносящими действие в капиталистическую обстановку: «Монолог битников», «Монолог голубого песца на аляскинской звероферме», «Монолог Мэрилин Монро», «Песенка американского солдата», «Монолог американского поэта», «Монолог бродвейской актрисы». Мы уходили внутрь истории, и наши исторические персонажи, надевая либо посконную рубаху Стеньки Разина, либо черное платье с белым воротничком народоволки Веры Фигнер, либо даже студенческую форму Казанского университета, выкрикивали современную боль. Но цензоры постепенно разгадали нас. Их любимым словом стало слово «аллюзия», произносимое ими со сладострастным, триумфальным чувством тюремщика, угадавшего напильник для тюремной решетки, запеченный в яблочный пирог.
3. Куинджи и певчие птички
Иезуитство цензуры было утонченным.
В 1964 году весьма далекий от либерализма редактор журнала «Знамя» Кожевников показал мне верстку номера с моими стихами, испещренную чьим-то красным карандашом. Я спросил его: «Это Главлит?» Он отрицательно покачал головой и поднял свой карандаш вверх, указывая уровень явно повыше Главлита. Думаю, ему хотелось выглядеть хотя бы в данном случае приличным человеком.
«Если хочешь спасти стихи, иди к Ильичеву, – сказал он, – жалуйся на меня». Я понял, что все карандашные пометки принадлежат не рядовым цензорам, а самому секретарю партии по идеологии. Про него тогда ходила такая частушка: «Начинается все снова, снова рубят все сплеча. Слишком много Ильичева, слишком мало Ильича». Я пришел на прием к Ильичеву и положил перед ним верстку, возмущаясь держимордизмом главного редактора «Знамени». Для Кожевникова это было безопасно – за держимордизм еще никого не снимали. Ильичев взял в руки верстку, как будто не его пометки красным карандашом стояли тут и там, стал внимательно читать, иногда выражая междометиями свое восхищение. Прочитав весь стихотворный цикл, он глубоко вздохнул, сморщил лысенький лоб и взглянул на меня жирными бегающими глазками поверх очков, сползших на коротенький поблескивающий нос.
– Плохо матросику, ой как плохо… – вдруг замотал он головой, чуть не всхлипывая и испытующе сверля меня взглядом.
– Какому матросику? – недоуменно переспросил я.
– Как это – какому? Вашему матросику, вашему… – И Ильичев ткнул пальцем в стихотворение «Граждане, послушайте меня». – Вот он, ваш матросик, Евгений Александрович, сидит одинокенький, никому не нужный, на палубе и песню под гитару поет. А его никто не слушает, Евгений Александрович, никтошеньки… Ведь я тоже матросиком был когда-то, поглядите…
И секретарь Центрального Комитета по идеологии протянул мне над зеленым бильярдным сукном государственного стола крепенький кулачок, заросший рыжим волосом, на котором была полусведенная, но все-таки заметная татуировка. Ильичев вскочил и лихорадочно заходил вокруг меня быстрыми шажками полненького, но крепенького человечка:
– А матросик-то ваш, Евгений Александрович, на кораблике едет. И кораблик этот не простой, а «Фридрих Энгельс» называется. А что на этом кораблике у вас творится: все водку пьют, или в карты играют, или танцуют, а на матросика несчастного ноль внимания. Это ж все до символа, Евгений Александрович, вырастает, до символа… Корабль – это наша страна. Толпа на корабле, водку, пардон, хлещущая, – это наш русский народ. А матросик несчастненький – это вы, Евгений Александрович. А какой же вы несчастный, что же вы такое фантазируете! И кто вас несчастным-то сделал – уж не советская ли власть?
Ильичев остановил свое затравленное беганье вокруг меня, сел и подвинул ко мне уже остывший стакан чаю и вазочку с сушками:
– Да вы не стесняйтесь. Отведайте наших партийных сушечек. Евгений Александрович, вы, конечно, знаете художника Куинджи. У меня в моей скромной коллекции, кстати, есть одно его полотно. Ну, мою коллекцию с вашей не сравнишь. Наслышан, наслышан. А вот знаете ли вы о том, что он был к тому же знаменитым птичьим лекарем? Бывает, начнет какая-нибудь певчая птичка, в неволе затосковав, из клеточки продираться и повредит себе крылышко. Несладко ведь песни-то петь в неволе, Евгений Александрович, ох как несладко. Я ведь тоже здесь, в кабинете этом, как в клетке. Да что обо мне. Так вот, многим певчим птичкам Куинджи или крылышки спасал, или косточки вправлял, или травяным настоем птичек отпаивал, ежели у них горлышко побаливало. А когда умер Куинджи, то, говорят, владельцы вылеченных им певчих птичек пришли на его похороны с клетками, открыли их, и все птицы сели на гроб художника и запели свою прощальную благодарную песню.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу