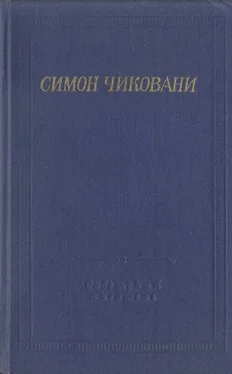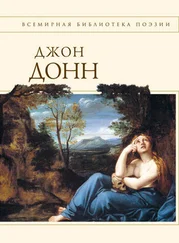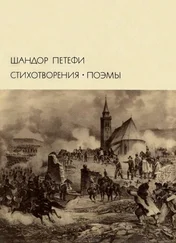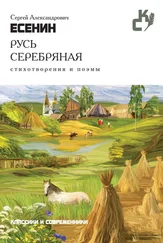(«Приход рыбака»)
Мастером яркого «живописного образа» [10] Пастернак Борис, Письма друзьям. — Литературная Грузия, 1966, № 1, с. 80.
назвал Борис Пастернак Симона Чиковани. Мы ссылаемся на оценку этого поэта, так как он в качестве переводчика, познавшего «секреты мастерства» переводимого поэта, смог точно определить главный признак его поэтического своеобразия.
Сам Симон Чиковани так писал о возможностях расширения средств поэтической выразительности: «…я и тогда думал и теперь полагаю, что умеренное вторжение в поэзию свойств живописи и музыки не является большой погрешностью… Я всегда стоял за расширение рамок лирической формы и отстаивал необходимость вторжения элементов высокой прозы в поэзию. Разумеется, свойства других искусств должны входить в лирическую поэзию так, чтобы они превращались в язык поэзии, и в этом смысле не должны являться повторением языка музыки или живописи.
Поднявшаяся на высокую ступень лирическая поэзия не избегает ни описаний, ни поэтического повествования». [11] Чиковани Симон, Мысли. Впечатления. Воспоминания, с. 114.
Нельзя не согласиться с этой мыслью (если, разумеется, не делать такую установку обязательной для всех). Поэтическая практика Галактиона Табидзе еще раз доказала, например, плодотворность использования в поэзии музыкальных приемов, а успешные опыты самого Симона Чиковани по внедрению в поэзию приемов живописи и прозы также говорят сами за себя.
Стоит отметить, что если в начале 30-х годов названные поэтом элементы стиля прорабатывались чисто изолированно друг от друга, в разных произведениях, то в его более поздней лирике они большей частью синтезированы, органически слиты в пределах единой лирической композиции стиха.
Кстати, о композиции. Насыщенность стихотворения метафорами определяет и своеобразие его композиции, основанной на принципах внутренней ассоциативности. Метафора помогает поэту связать историю с современностью, сблизить географически отдаленные края, обнаружить и подчеркнуть внутреннее родство между, казалось бы, весьма отдаленными предметами и явлениями. Там, где для установления подобных связей понадобились бы пространный лирический монолог или обширное причинно-мотивированное описание и повествование, метафора почти мгновенно достигает цели. Так, например, последовательная реализация одной-единственной метафоры (уподобление стиха подзорной трубе, с помощью которой поэты провидят будущее) дает Симону Чиковани возможность блестяще решить тему трагической судьбы царя-поэта Теймураза I в ее современном осмыслении.
В пределах единой лирической композиции стихотворения «Теймураз обозревает осень в Кахетии» оказались связанными Грузия XVII и XX веков, соотнесены картины природы и людские судьбы, Теймураз и сегодняшний колхозник. Какой лирический монолог или эпическое повествование могли бы дать столь наглядное, зримое, изобразительное решение этой задачи? В то же время именно в этом стихотворении осуществлено упомянутое выше сочетание метафорического строя с элементами живописной образности и «высокой прозы». Таков же принцип построения одного из более поздних произведений Симона Чиковани — «На польской дороге», открывший поэту возможность не менее блистательно решить сложнейшую лирико-публицистическую тему. Метафора связывает здесь такие отдаленные друг от друга образы, как снежная польская равнина, страница Воззвания о мире, белоснежная скатерть на столе вагона, где провозглашается тост за дружбу. Метафора сближает Волгу, Вислу и Куру, метафора переносит поэта к родному городу, метафора воскрешает на польской дороге образ отдаляющейся России.
Симон Чиковани — мастер замкнутой лирической композиции стиха. В этом отношении его творческий метод полная противоположность методу Георгия Леонидзе. Вспомним безудержную стремительность щедрого потока образов у Леонидзе, распахнутые двери его поэзии, шумное, бурное половодье слов, когда порою начинает казаться, что единственным композиционным принципом поэт считает отсутствие строгой композиции, и вспомним принципиальную установку Симона Чиковани:
Настоящий поэт осторожен и скуп.
Дверь к нему изнутри заперта.
Он слететь не позволит безделице с губ,
Не откроет не вовремя рта.
Как блаженствует он, когда час молчалив!
Как ему тишина дорога!
Избалованной лиры прилив и отлив
Он умеет вводить в берега.
Читать дальше