Кто-то сказал с усмешкой, из фляги отпив глоток,
Кто это был, неважно, Пизон или Цинна:
«О, неужели здесь тоже борьба за власть
Есть, хоть трибунов нет, консулов и легатов?»
Он придержал коня, к той же фляжке решив припасть,
И, вернув ее, отвечал хрипловато
И, во всяком случае, с полной серьезностью: «Быть
Предпочел бы первым здесь, чем вторым
или третьим в Риме…»
Сколько веков прошло, эту фразу пора б забыть!
Миллиона четыре в городе, шесть —
с окрестностями заводскими.
И, повернувшись к тому, кто на заднем сиденье
спит —
Укачало его, – спрошу: «Как ты думаешь, изменился
Человек или он всё тот же, словно пиния и самшит?»
Ничего не ответит, решив, что вопрос мой ему
приснился.
В складках каменной тоги у Гальбы стоит дождевая
вода.
Только год он и царствовал, бедный,
Подозрительный… здесь досаждают ему холода,
Лист тяжелый дубовый на голову падает, медный.
Кончик пальца смочил я в застойной воде дождевой
И подумал: еще заражусь от него неудачей.
Нет уж, лучше подальше держаться от этой кривой,
Обреченной гримасы и шеи бычачьей.
Что такое бессмертие, память, удачливость, власть, —
Можно было обдумать в соседстве с обшарпанным бюстом.
Словно мелкую снасть
Натянули на камень, – наложены трещинки густо.
Оказаться в суровой, размытой дождями стране,
Где и собственных цезарей помнят едва ли…
В самом страшном своем, в самом невразумительном сне
Не увидеть себя на покрытом снежком пьедестале.
Был приплюснут твой нос, был ты жалок и одутловат,
Эти две-три черты не на вечность рассчитаны были,
А на несколько лет… но глядят, и глядят, и глядят.
Счастлив тот, кого сразу забыли.
«Гудок пароходный – вот бас; никакому певцу…»
Гудок пароходный – вот бас; никакому певцу
Не снилась такая глубокая, низкая нота;
Ночной мотылек, обезумев, скользнет по лицу,
Как будто коснется слепое и древнее что-то.
Как будто все меры, которые против судьбы
Предприняты будут, ее торжество усугубят.
Огни ходовые и рев пароходной трубы.
Мы выйдем – нас встретят, введут во дворец и полюбят.
Сверните с тропы, обойдите, не трогайте нас!
Гудок пароходный берет эту жизнь на поруки.
Как бы в три погибели, грузный зажав контрабас,
Откуда-то снизу, с трудом, достают эти звуки.
На ощупь, во мраке… Густому, как горе, гудку
Ответом – волненье и крупная дрожь мировая.
Так пишут стихи, по словцу, по шажку, по глотку,
С глазами закрытыми, тычась и дрожь унимая.
Как будто все чудища Древнего мира рычат,
Все эти драконы, грифоны, быки, минотавры…
Дремучая жизнь и волшебный, внимательный взгляд,
И, может быть, даже посмертные бедные лавры.
«За дачным столиком, за столиком дощатым…»
За дачным столиком, за столиком дощатым,
В саду за столиком, за вкопанным, сырым,
За ветхим столиком я столько раз объятым
Был светом солнечным, вечерним и дневным!
За старым столиком… слова свое значенье
Теряют, если их раз десять повторить.
В саду за столиком… почти развоплощенье…
С каким-то Толиком, и смысл не уловить.
В саду за столиком… А дело в том, что слишком
Душа привязчива… и ей в щелях стола
Все иглы дороги, и льнет к еловым шишкам,
И склонна всё отдать за толику тепла.
«В лазурные глядятся озера́…»
В лазурные глядятся озера́…
Тютчев
В лазурные глядятся озера́
Швейцарские вершины, – ударенье
Смещенное нам дорого, игра
Споткнувшегося слуха, упоенье
Внушает нам и то, что мгла лежит
На хо́лмах дикой Грузии, холмится
Строка так чудно, Грузия простит,
С ума спрыгну́ть, так словно шевели́тся.
Пока еще язык не затвердел,
В нем ре́звятся, уча пенью́ и вздохам.
Резе́да и жасмин… Я б не хотел
Исправить всё, что собрано по крохам
И ластится к душе, как облачко́,
Из племени духо́в, – ее смутивший
Рассеется призра́к, – и так легко
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



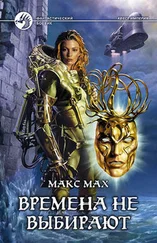
![Макс Мах - Эпоха мечей - Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/393605/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n-thumb.webp)




