И может быть, ему милее наши дни,
Чем пыл священный тот, – ведь он менялся с нами.
Бог – это то, что мы подумали о нем,
С чем кинулись к нему, о чем его спросили.
Он в лед ввергает нас, и держит над огнем,
И быстрой рад езде в ночном автомобиле,
И может быть, живет он нашей добротой
И гибнет в нашем зле, по-прежнему кромешном.
Мелькнула, вся в огнях, – не в церкви грубой той,
Не только в церкви той, хотя и в ней, конечно.
Старуха, что во тьме поклоны бьет ему,
Пускай к себе домой вернется в умиленье.
Но пусть и я строку заветную прижму
К груди, пусть и меня заденет шелестенье
Листвы, да обрету покой на полчаса
И в грозный образ тот, что вылеплен во мраке,
Внесу две-три черты, которым небеса,
Быть может, как теплу сочувствуют и влаге.
«Трагедия легка: убьют или погубят…»
Трагедия легка: убьют или погубят —
Искуплен будет мрак прозреньем и слезой.
Я драм боюсь, Эсхил. Со всех сторон обступят,
Обхватят, оплетут, как цепкою лозой,
Безвыходные сны, бесстыдные невзгоды,
Бессмертная латынь рецептов и микстур,
Придет грузотакси, разъезды и разводы,
Потупится сосед, остряк и балагур.
Гуляет во дворе старик с больным ребенком,
И жимолость им вслед пушистая шумит.
Что ж, лучше б алкашом он был или подонком?
Всех бед не перечесть, не высказать обид.
Есть ужасы, что нам, должно быть, и не снились.
Под шторку на окне просунутся лучи.
Ты спишь? Не за тебя ль в соседней расплатились
Квартире толчеей и криками в ночи?
«Скорей соринка, чем жучок. Полусоринка…»
Скорей соринка, чем жучок. Полусоринка,
Полужучок. Но как у нас из-под руки
Стремглав она бежит! Вот пауза, заминка.
Вот снова мелкий бег, зигзаги и рывки.
И можно ль не бежать, и можно ль не бояться?
Страх – вот что всех иных, священных чувств древней.
Не помню, кто бежал так, бросив щит, – Гораций?
Соринкой лучше быть: поди ее прибей!
Жучок, товарищ мой, зазорный брат забытый,
Засунутый бог весть в какую пыль, сухой,
Запуганный, – задет слепой твоей обидой,
Что вижу? Голый страх, защитный страх живой.
Не память, не любовь, не жажда приключений
Роднит живущих нас, на поиски добра,
А страх, бессмертный страх… Тем храбрость драгоценней!
Соринка, стать жучком решившись, так храбра.
«Надгробие. Пирующий этруск…»
Надгробие. Пирующий этруск.
Под локтем две тяжелые подушки,
Две плоские, как если бы моллюск
Из плотных створок выполз для просушки
И с чашею вина застыл в руке,
Задумавшись над жизнью, полуголый…
Что видит он, печальный, вдалеке:
Дом, детство, затененный дворик школы?
Иль смотрит он в грядущее, но там
Не видит нас, внимательных, – еще бы! —
Доступно человеческим глазам
Лишь прошлое, и всё же, крутолобый,
Он чувствует, что смотрят на него
Из будущего, и, отставив чашу,
Как звездный свет, соседа своего
Не слушая, вбирает жалость нашу.
«Он, о себе говоривший, что крупного плана…»
Он, о себе говоривший, что крупного плана
Видеть не может без слез на экране, – шутя
Это сказал, – всё равно, даже хвостик барана
Маленький, толстый, тем более – струи дождя,
В фильме как будто бегущие вскачь, и малина,
Белые, острые, цепкие листья ее,
Взгляд человеческий, женское платье, овчина
Желтая, жесткая, жаркая, просто тряпье
Или репейник, тем более – цепкая дверца
Автомобильная, кто обращается с ней
Так осмотрительно? – щелкнула, – екнуло сердце,
К псковскому поезду! – потные лица детей,
Он, замороченный лефовскими остряками,
С ними не спевшийся, хоть и пристегнутый к ним, —
Как на экране глаза голубеют белками!
Нет, кроме шуток, и Бог, если есть, – нелюдим,
Полка вагонная, плащ, на крючок аккуратно
Кем-то повешенный, кажется, нет ничего
Будничней, господи, жилки венозные, пятна
Старческих рук, это счастье смертельно, громадно,
Весь он в слезах – и не надо смотреть на него!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



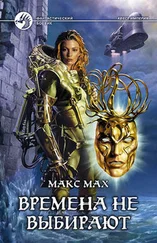
![Макс Мах - Эпоха мечей - Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/393605/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n-thumb.webp)




