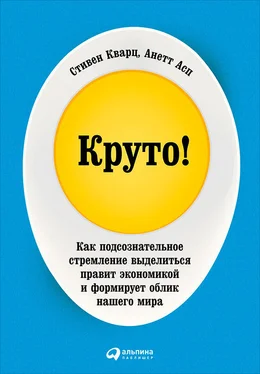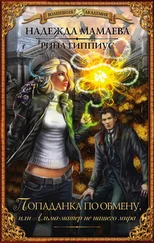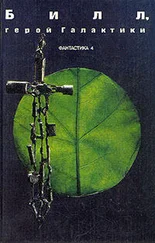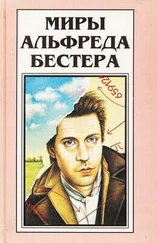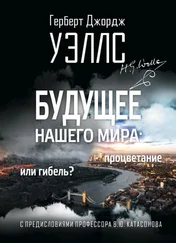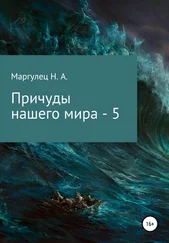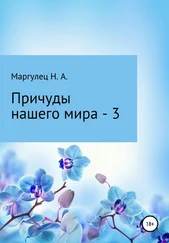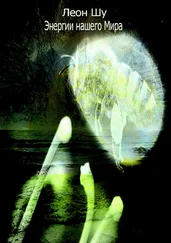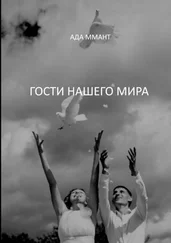В результате к середине девяностых идея представления молодежных стилей жизни как оппозиционных субкультур начала терять свою популярность. Социологи возвестили начало «постсубкультурной» эры. Классовая система и прочие общественные структуры, раньше нависавшие над каждым из нас, уже не определяли образ жизни. Люди перестали быть безвольными идиотами – теперь они активные потребители, создающие собственный смысл идентичности. Потребительская культура может даже освобождать, потому что после разрушения иерархических и экономических барьеров, мешающих людям выбирать наиболее подходящий образ жизни, перед ними открылся удивительно широкий спектр возможностей. Сегодня потребительская культура уже не подкрепляет классовую идентичность, а наоборот, дает молодым людям возможность вырваться из нее {329} 329 Bennett, Andy. 1999. “Subcultures or neo-tribes? Re-thinking the relationship between youth, style and musical taste.” Sociology 33:599–617.
.
В популярных историях о кооптации современное общество выглядит так, словно за последние пятьдесят (или сто пятьдесят) лет в нем ничего принципиально не изменилось. Для кооптации нужна доминирующая общественная структура, которая будет ее осуществлять. Однако к середине девяностых бунтарская крутизна и порожденное ею оппозиционное потребление помогли превратить четко организованную статусную иерархию послевоенной Америки в плюралистичный, раздробленный социальный ландшафт. Поэтому к девяностым годам бунтарям осталось лишь воевать с ветряными мельницами. Так называемый мейнстрим перестал быть доминирующей культурой. По сути, он вообще исчезает. Хотя потребители и культурологи продолжают говорить о «мейнстримовой культуре» как о доминирующей силе, сегодня это больше интеллектуальная фантазия, чем реальная черта постматериалистического общества. Опирающиеся на нее противопоставления – мейнстрим против субкультуры, коммерческое против альтернативного, настоящее против фальшивого – также существуют теперь преимущественно в нашем воображении. (Само собой, мы не заявляем, что закат культурной статусной иерархии означал конец экономического неравенства или социальной несправедливости {330} 330 Как мы уже подчеркивали, статусная иерархия – это установленный по договоренности одномерный порядок, создающий стратификацию. В постиндустриальном обществе интенсивная дифференциация возможна без такого порядка (сложное бесклассовое неравенство). См., к примеру: Pakulski, Jan, and Malcolm Waters. 1996. The Death of Class . Thousand Oaks, CA: Sage Publishers; Pakulski, Jan. 2005. “Foundations of a post-class analysis.” In Erik Olin Wright, ed., Approaches to Class Analysis . Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp. 152–79; Weeden, Kim A., and David B. Grusky. 2012. “The Three Worlds of Inequality.” American Journal of Sociology 117:1723–85. Отношения между иерархическими и горизонтальными групповыми взаимодействиями с одной стороны и политической поляризацией с другой очень сложны, однако увеличение эгалитарности может также стимулировать, а не подавлять социальные конфликты. См.: Nozick, 1974, Anarchy, State, and Utopia ; Ho, A. K., et al., 2012, “Social dominance orientation”; Guimond, Serge, Richard J. Crisp, Pierre De Oliveira, Rodolphe Kamiejski, Nour Kteily, Beate Kuepper, Richard N. Lalonde, et al. 2013. “Diversity policy, social dominance, and intergroup relations: Predicting prejudice in changing social and po liti cal contexts.” Journal of Personality and Social Psychology 104:941–58.
.)
Культура мейнстрима должна представлять общие ценности большинства, но если сегодня вы начнете их искать, то найдете лишь раздробленность. Возьмем, к примеру, религиозную культуру. Сорок лет назад более двух третей американцев были протестантами. Теперь их меньше половины. Даже среди протестантов все это время происходило, по описанию Исследовательского центра Пью, «значительное повышение разнообразия и фрагментация, что выражено в образовании сотен различных течений и сект». Сорок лет назад 7 % американцев говорили, что не относят себя ни к какой религии. Сегодня таковых уже 20 %, а среди молодых людей в возрасте от восемнадцати до двадцати двух – более 35 % {331} 331 Pew Research Center. 2012. “‘Nones’ on the Rise: One-in-Five Adults Have No Religious Affiliation.” www.pewforum.org/files/2012/10/NonesOnTheRise-full.pdf; Goodstein, Laurie. 2012. “Percentage of Protestant Americans Is in Steep Decline, Study Finds.” The New York Times , October 9. www.nytimes.com/2012/10/10/us/study-finds-that-percentage-of-protestant-americans-is-declining.html .
.
Бесполезно пытаться вычленить из этой глубокой раздробленности какую-то общепринятую религиозную культуру. При этом культура не просто фрагментируется, но и все больше поляризуется. Количество людей, придерживающихся «умеренной середины», сочетания либеральных и консервативных взглядов, людей, ищущих компромисс, за последние два десятилетия резко уменьшилось. За этот период процент американцев, выражающих исключительно консервативные или исключительно либеральные взгляды, увеличился вдвое. В результате этого взгляды республиканцев и демократов теперь практически не пересекаются {332} 332 Pew Research Center. 2014. “Political Polarization in the American Public.” www.people-press.org/2014/06/12/political-polarization-in-the-american-public/ .
. Подобные различия не ограничиваются политикой: либералы обычно выбирают для жизни расово и этнически разнообразные районы, в то время как консерваторы предпочитают жить в пригородах, в общинах людей, разделяющих с ними религиозные убеждения. Журналист Билл Бишоп и статистик Роберт Кушинг называют эту идеологическую сегрегацию «большой сортировкой» {333} 333 Bishop, Bill. 2009. The Big Sort: Why the Clustering of Like-Minded America Is Tearing Us Apart . New York: Houghton Mifflin Harcourt.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу