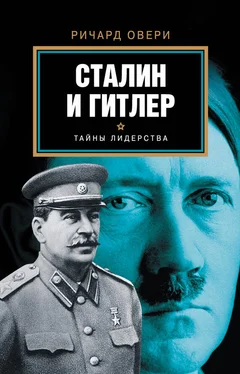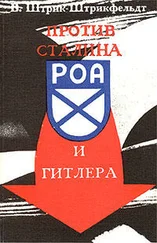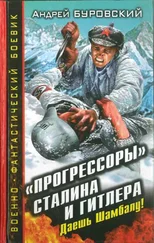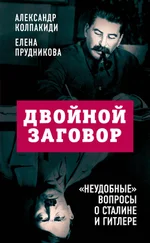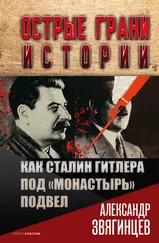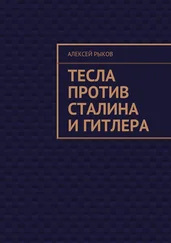Отказ от «буржуазных» инженеров, как агентов социальной модернизации, был главной чертой широкой борьбы за создание бесклассового общества. В советской модели техническая интеллигенция не могла играть лидирующую роль, пока рабочие чахли на обочине. В конце 1920-х и в начале 1930-х годов многие инженеры были приглашены из-за рубежа и поэтому, что само собой подразумевалось, находились под подозрением или же были выходцами из более привилегированных и более образованных групп населения. Преобладающий культурный стереотип этих специалистов состоял в том, что все они вредители и саботажники. Возникший парадокс был разрешен с помощью того, что тысячи молодых советских мужчин и женщин пропустили через ускоренные курсы обучения, с тем чтобы сделать из них эффективных практиков, и в итоге получили людей с опытом, хотя без дипломов, и с незапятнанными пролетарскими характеристиками 90. К 1931 году на этих курсах технической подготовки обучались 3 миллиона человек; приоритет отдавался узким практическим навыкам, связанным непосредственно с производством и строительством. Процесс индустриализации углублялся, и число практиков пошло на убыль по мере того, как появлялось все больше рабочих, прошедших обучение в технических колледжах и университетах, способных обеспечить более высокий уровень образования. Но на протяжении всех 1930-х годов подготовка технической интеллигенции, которая, с одной стороны, была лучше подготовлена с точки зрения практики, а с другой – имела менее привилегированное социальное происхождение, продолжалась. В период между 1933 и 1941 годами доля технической и управленческой интеллигенции, вышедшей из той части населения, которая обладала высшим образование, упала с 22 до 17 %, в то время как доля тех, кто поднялся на этот уровень с уровня практиков, выросла с 59 до 66 % 91. Образцовой фигурой для нового, бесклассового государства стал героический инженер-рабочий. Тысячи таких специалистов были поставлены на руководящие посты, ранее занятые теми, кто в силу своего социального происхождения или образования не прошел через сито предыдущих чисток.
Предполагалось, что новые, бесклассовые общества сформируют скорее функциональные, а не социальные элиты. Этого проще было достичь в Советском Союзе, где социальные категории были весьма расплывчатыми в первые двадцать лет после 1917 года. Социальная мобильность была неизбежным последствием разрушения старых элит и общественных классов, а также насильственной индустриализации. Крестьяне переезжали в города и пополняли ряды рабочих; миллионы бывших рабочих и крестьян становились управленцами низшего звена, менеджерами и техническими работниками; еще тысячи вырастали до менеджеров и инженеров; в сталинском политбюро, в отличие от ленинского, только один член был не плебейского происхождения. Формирование очевидно современной социальной структуры позволило Советскому Союзу при Сталине создать социальные условия для уничтожения классов, унаследованных от дореволюционного периода, что также облегчило достижение сталинистского идеала – создание содружества, в котором бы доминировали люди пролетарского происхождения. Труднее оценить результаты событий в гитлеровской Германии, так как здесь идеалистам пришлось иметь дело с устоявшейся социальной структурой и унаследованными элитами. Социальный анализ национал-социализма показывает, что в социальной структуре здесь выделяются основные категории граждан: крестьяне, рабочие, «белые воротнички», независимые бизнесмены и специалисты. Вытекающий отсюда вывод о том, что диктатура не способствовала в долгосрочной перспективе эволюции социальной структуры населения Германии, что рабочий остался рабочим, инженер – инженером, тем не менее игнорирует факт значительного ускорения социальной мобильности и, более того, факт консолидации сугубо национал-социалистической элиты, отвечавшей социальному утопизму режима, точно так же, как практики отвечали предполагаемому образу коммунистического будущего.
Любые из сотен фотографий Гитлера, где он стоит в окружении групп чиновников в официальных костюмах, некоторых военных, партийных лиц, иногда членов сотен ассоциаций и корпораций, появившихся на свет после 1933 года, ярко демонстрируют до какой степени сформированная партией элита отличается от любой другой элиты, существовавшей до нее. Решение о том, что каждый должен носить форму, было связано с задачей повышения самосознания, и было задумано, по словам Гитлера, «чтобы немцы могли ходить вместе рука об руку безотносительно к их положению в обществе» 92. В униформе стираются видимые различия между тем, что Гитлер называл «стрелками на брюках» и «рабочей одеждой механика». В униформе легко можно было показать с помощью запутанной системы петлиц и меток, украшающих ее, функции, которые выполняет каждый. Упор, который делался на функциях и технических задачах, которые выполнял тот или иной человек, пересекал все границы классовых различий. Важнее здесь было, как и в
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу