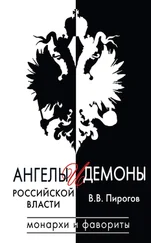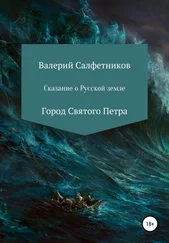Однако постепенно жесткое размежевание между «элитистами» и «плюралистами» (социологами и политологами) стало ослабевать и появилось стремление к снятию противоречий между двумя школами. Наиболее естественным шагом в этом направлении стало комплексное использование различных методов в определении характера распределения власти; исследователи постепенно пришли к идее о том, что элитизм и плюрализм не являются альтернативными интерпретациями политической реальности, а представляют собой две стороны единого элитистско-плюралистического континуума, в рамках которого укладываются эмпирические данные о распределении власти в различных городских сообществах. Это, в свою очередь, стимулировало развитие компаративных исследований, направленных на выявление факторов, определяющих распределение власти, ее динамику и результаты.
Пик компаративных исследований пришелся на вторую половину 1960-х – начало 1970-х годов; этот период Терри Кларк назвал «компаративной революцией» [Clark, 1968а, р. 5]. Преимущества компаративных исследований над исследованиями в отдельных локальных сообществах очевидны; они позволили в значительной мере преодолеть ограниченность материала, имеющегося в распоряжении исследователя, более обоснованно судить о преобладающих типах структуры власти и базовых тенденциях ее развития.
Вместе с расширением объекта исследования происходила и естественная корректировка его проблематики. Исследователи уже не ограничивались ответом на главный вопрос «кто правит?», поставленный Хантером, Далем и их последователями. Формулировка базовой стратегии исследования власти стала более емкой: «кто правит, где (в каких сообществах), когда (при каких условиях) и с какими результатами?».
Одним из первых сравнительных исследований власти стало исследование Роберта Престуса [Presthus, 1964] в двух небольших городках штата Нью-Йорк (Ривервью и Эджвуд). Используя комбинацию репутационного и решенческого методов, он обнаружил, что структуры власти в городах заметно различаются. В Эджвуде наибольшим влиянием обладают экономические лидеры, хотя нередко им приходится преодолевать оппозицию политических лидеров. В Ривервью, наоборот, доминируют политические лидеры, а экономическая элита занимает периферийное место в политическом процессе. Эти различия Престус объясняет тем, что Эджвуд представляет собой значительно более развитый в экономическом отношении город и поэтому роль местных экономических ресурсов в нем более заметная, чем в Ривервью; экономические лидеры могут мобилизовать большие финансовые ресурсы и получить поддержку своих корпораций для реализации необходимых программ. В то же время у политических лидеров в Ривервью сильнее «внешняя» ориентация и они часто обращаются за ресурсами к политическим структурам более высокого уровня. По результатам исследования Престус делает вывод, что в городах со слабыми экономическими ресурсами, скорее всего, будут доминировать политические лидеры, тогда как в тех сообществах, где есть достаточное количество внутренних ресурсов, вероятнее большее влияние экономических лидеров.
Исследование Роберта Эггера, Дэниэла Голдриха и Берта Свенсона [Agger, Goldrich, Swanson, 1964] также изначально предполагало выйти за пределы элитистско-плюралистической дихотомии на основе более гибкого подхода к изучению власти. При этом в качестве предмета исследования были выбраны уже четыре города на северо-западе и юго-востоке США (Ортаун, Петрополис, Метровилль, Фармдейл). Обнаруженный ими характер взаимоотношений между лидерами не вписывался ни в плюралистическую, ни в элитистскую парадигму власти и, как и у Престуса, существенно различался между городскими сообществами. Фактически только два города из четырех – Ортаун и Петрополис – в целом соответствовали нормативным представлениям об американской (плюралистической) демократии: в обоих городах сформировались режимы развитой демократии и граждане могли участвовать в политической жизни города без серьезного риска санкций со стороны своих политических оппонентов. Однако ситуация в двух других городах была иной, что позволило исследователям квалифицировать их режимы как «неразвитую демократию» (Метровилль) и «направляемую демократию» (Фармдейл).
Логика сравнительного анализа власти естественным образом стимулировала расширение сферы исследования за пределы Американского континента. Первым, кто реализовал на практике идею сравнения структуры власти городских сообществ разных стран, был Делберт Миллер [Miller, 1958]. Объектами исследования он избрал Сиэтл (США) и Бристоль (Великобритания) и обнаружил между ними существенные различия: если в Сиэтле доминировал местный бизнес, то в Бристоле главной ареной принятия решений стал местный совет, а решения по основным вопросам принимались на партийной основе. Различия в структуре власти между американским и английским городами Миллер связывает с двумя основными факторами: в Англии ниже статус и престиж индустриального сектора, но местные органы публичной власти играют более значимую роль и имеют более существенный потенциал влияния.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
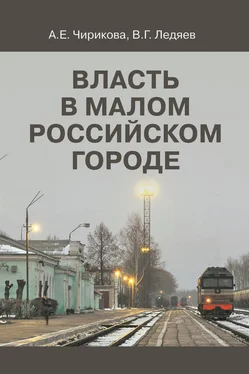
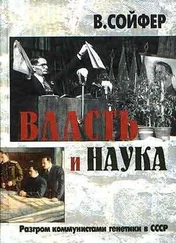
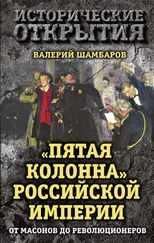
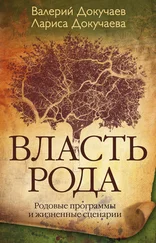


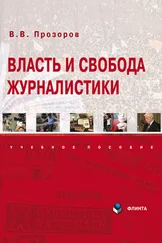

![Валерий Строкин - История с Малыми Тмутараканями [СИ]](/books/402570/valerij-strokin-istoriya-s-malymi-tmutarakanyami-si-thumb.webp)