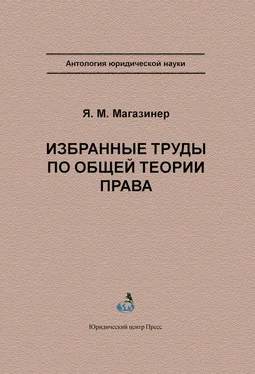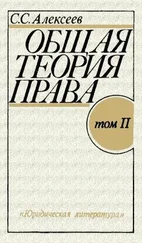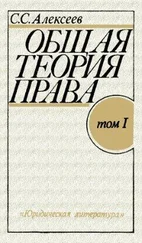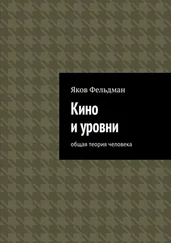В теории советского социалистического права монистическое понятие объекта права как действия медленно, но неуклонно преодолевало понятие объекта права как вещи. В 1929 г. П. И. Стучка еще рассматривает «два слагаемых элемента права: с одной стороны, живого человека – субъекта права и, с другой стороны, мертвую вещь – объект права», но тут же приводит известное положение Маркса о том, что машина есть вещь, но «при определенных отношениях она становится капиталом», а «капитал есть общественно-производственное отношение» . [264]Однако обычно некоторые авторы все еще проводят то различие между объектами права, что в вещных правоотношениях объектом права является вещь, а в обязательственных – действие . [265]
Но уже в середине 20-х годов прокладывает себе дорогу монистическое положение, что единственным объектом права является действие . Этим полностью отрицалась теория «прямого господства над вещью». Возражая против этой теории, В. К. Райхер в 1928 г. писал: «…всякое правоотношение и, в частности, „вещное“ есть отношение между людьми, а не между людьми и вещами. Этот „социальный“, „междучеловеческий“ характер права подчеркивается в последнее время все сильнее и сильнее…» Иначе получается «фетишизация» вещи. «Проявление „проекция“ в вещах междулюдских отношений принимается… за подлинные „отношения к вещам“. В плену этого воззрения и состоит доктрина непосредственного господства над вещью» как теория, «старейшая по времени и устаревшая по существу». [266]
А. В. Венедиктов, не выступая, как и В. К. Райхер, сторонником монистический теории действия как объекта права, четко и ясно писал: «Итак, собственность – всегда общественно-производственное отношение , отношение между людьми по поводу средств и продуктов производства, но не между людьми и принадлежащими им средствами производства» . [267]Позднее, в 1954 г., А. В. Венедиктов отмечал: «Применяя общепринятую формулу о фактическом, т. е. физическом или хозяйственном, господстве над вещью , независимо от права на нее, мы имеем, само собой разумеется, в виду не отношение владельца к вещи, а определенную форму общественных отношений между людьми по поводу вещей (средств производства и предметов потребления) – отношений, регулируемых советским правом именно в качестве общественных отношений между субъектами права». [268]
Наряду с этими четкими и ясными высказываниями В. К. Райхера и А. В. Бенедиктова против теории «непосредственного господства над вещью» в нашей литературе еще продолжали утверждать, что важнейшими объектами социалистического гражданского права являются «вещи» и «личные блага» (произведения искусства, а также жизнь, честь, телесная неприкосновенность и т. д.). [269]
Но уже в 1947 г. О. С. Иоффе дал развернутую защиту монистической теории действия как единственного объекта права и вместе с тем подверг критике буржуазные воззрения на объект права. [270]Буржуазные авторы, выдвигавшие теорию множественности объектов права, неизменно включают в число объектов человеческую личность, вещи, продукты духовного творчества и т. д. «Эти феодально-крепостнические тенденции буржуазной юридической науки… – отмечает О. С. Иоффе, – доводятся до крайних пределов некоторыми авторами, утверждавшими, что поскольку всякое право предполагает подчинение чужой личности – власти управомоченного, постольку человек должен рассматриваться не как один из объектов, а как единственный объект всякого права». [271]Противовесом этой теории является теория действия как объекта права, противостоящая превращению как человека, так и вещи в объект права.
Объект «в философии диалектического материализма определяется как внешний, противостоящий субъекту предмет, на который направляется сознание и деятельность субъекта». Таким объектом воздействия является чужое действие, на которое воздействует как управомоченный, требуя этого действия, так и сам обязанный, побуждая себя к обязательному действию. «…Только человеческое поведение способно к реагированию на воздействие, оказываемое субъективным правом и правовой обязанностью. Ни вещи, ни материальные блага не способны к такому реагированию» и поэтому не могут быть объектами права. Следовательно, «существует единый и единственный объект правомочия и обязанности» – человеческое действие. [272]В дальнейшем О. С. Иоффе дает интересное и ценное развитие этих положении, правильных по существу. [273]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу