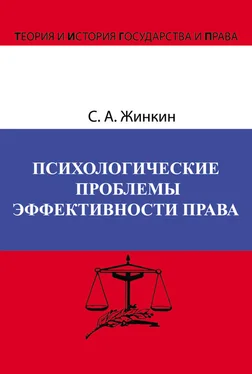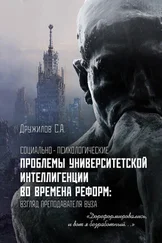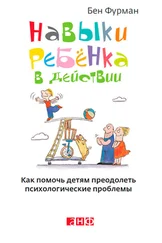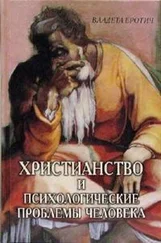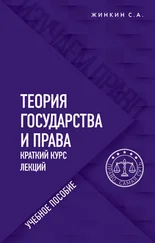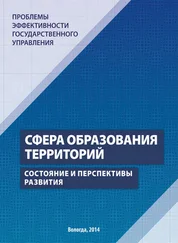Ряд авторов справедливо отмечают важность антропологической ориентации для дальнейшего развития правовой науки в XXI веке, а также возрастающее значение гуманизации правоведения [145]. В современной литературе говорится об обогащении механизмов социализации в современном мире, о постепенной замене жестко регламентированных программ человеческого поведения более сложными и разнообразными [146]. Таким образом, исполнение многообразных программ социального и группового поведения, в том числе в технической сфере, к тому же постоянно изменяющихся, превращается в непосильную задачу для современного человека. Все это, как представляется, должно учитываться и осмысливаться при определении путей и форм обеспечения эффективности права как социально-духовного регулятора и конкретных норм законодательства.
Ни для кого не секрет, что усложнение социальной жизни и технической деятельности ведет к постоянному расширению законодательного массива. Такое расширение не может не вызывать целого ряда последствий, негативно сказывающихся на эффективности норм права:
1) увеличение числа правовых предписаний превращает презумпцию знания закона в фикцию, делает более или менее полное ознакомление с системой законодательства практически невозможным;
2) рост числа законов и их «мелкотемье» подрывают авторитет законодательства в общественной среде;
3) увеличение числа норм ведет и к увеличению общего количества правонарушений. Само правонарушение из аномального явления становится явлением обыденным, встречающимся в жизни практически любого человека.
Ситуация осложняется тем, что увеличению числа нормативно-правовых актов в технически развитых странах пока не найдена достойная альтернатива. А самоустранение государства от регулирования многих сфер социальной жизни сопряжено с огромным социальным риском, с угрозой неконтролируемого развития науки и техники.
Все это придает проблеме обеспечения эффективности социального, в том числе правового, регулирования особую остроту, предопределяет необходимость поиска новых форм и методов действенного регулирования социальных и духовных процессов, обеспечения эффективных правовых рамок самореализации личности.
Представляется, что в современных условиях (это отвечало бы и плюрализму правопонимания) необходимо разработать так называемую плюралистическую теорию эффективности. При этом очень важно показать роль именно духовных и культурных факторов в обеспечении эффективности как права в целом, так и отдельных норм позитивного права (законодательства). Такая необходимость обусловлена целым рядом причин. Во-первых, многогранность проблемы эффективности права и норм законодательства вытекает из многообразия типов правопонимания, емкости самого понятия права. По словам С. С. Алексеева, право есть «явление, непомерно сложное, с трудом поддающееся научному определению, пожалуй, даже загадочное, в чем-то непостижимое» [147]. Очевидно, что право как духовный феномен, форма духовного существования человечества не может быть до конца понято и реализовано в законодательстве конкретного государства в конкретную историческую эпоху.
Многозначность и многоаспектность эффективности права связаны и с множеством форм проявления права. Как отмечает В. К. Самигуллин, право – это и мысль, слово (например, язык закона или язык договора), воля, дела, поступки, отношения, вещи, и в определенном смысле сам человек [148]. Р. С. Байниязов в связи с этим указывает, что право как конкретный феномен социальной действительности можно представить в следующих ипостасях:
– как проявление правовой идеи (мысли) и правового чувства;
– как специфический социально-исторический и культурный фактор устойчивости и развития общественных отношений наряду с другими социальными нормами;
– как выразитель формальной справедливости и равенства в обществе;
– как социальный институт, оказывающий необходимое правовое воздействие (и как часть последнего – правовое регулирование) на общественную жизнь;
– как четкий нормативный определитель, с одной стороны, свободного, возможного, дозволенного, желаемого поведения субъекта, а с другой – обязательного, необходимого, должного, принудительного;
– как мера позитивной ответственности (долга) личности, как вид социальной ответственности за антинормативное поведение;
– как институционально-объективированная позитивная правовая свобода личности, общества, государства;
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу