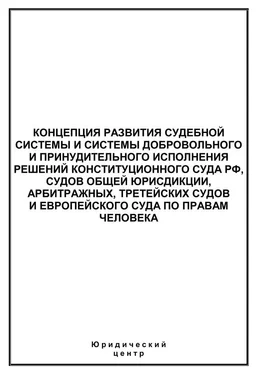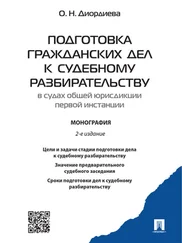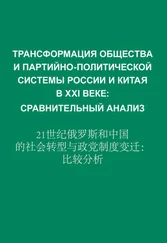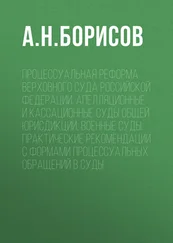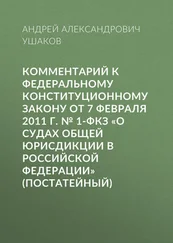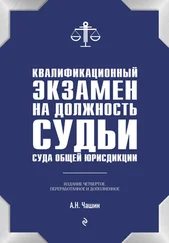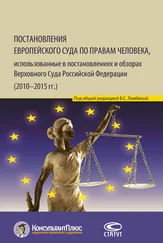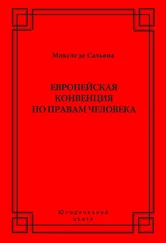Судья имеет право на отставку – почетный уход с должности по собственному желанию. При этом за ним сохраняются звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу.
Независимость судьи обеспечивается системой органов судейского сообщества, которые специально созданы для выражения интересов судей [3].
Но для решения вопроса о независимости и беспристрастности судей недостаточно только знать российское законодательство, необходим анализ правовых позиций Европейского суда по правам человека.
Рассматривая жалобы на нарушение прав и свобод человека, гарантируемых Конвенцией и Протоколами к ней, Европейский суд неизменно руководствуется выработанными им правовыми стандартами с учетом норм универсальных и региональных международно-правовых актов, а также законодательства государства-ответчика по жалобе, которое, однако, Суд не считает определяющим. Правовые позиции Европейского суда далеко не всегда совпадают с нормами национального законодательства государств – участников Конвенции относительно содержания и объема прав и свобод человека, гарантируемых Конвенцией [4].
В соответствии с правовыми позициями Европейского суда независимость суда обусловлена следующими факторами: процедурой назначения судей, продолжительностью службы в этом качестве, гарантиями, препятствующими давлению на них, а также наличием у суда внешних признаков независимости.
В отношении беспристрастности Суда, рассматривающего конкретное дело, в правовой позиции Европейского суда содержатся два критерия: субъективный – судья должен быть свободен от личных предубеждений или пристрастий, связанных с личностью обвиняемого или одной из сторон в гражданском процессе, и объективный – состав суда и его действия должны исключать какие-либо обоснованные сомнения в беспристрастности каждого судьи, участвующего в деле.
Уточняя первый из них, Суд указал, что, пока не доказано обратное, действует презумпция личной беспристрастности судьи. Как показывает практика Европейского суда, опровергнуть эту презумпцию весьма сложно, если только в ходе разбирательства дела в национальной инстанции судья или присяжный не позволил себе неосторожных высказываний или опрометчивых действий.
В одном из немногих дел, по которым Суд признал нарушение п. 1 ст. 6 по причине субъективной пристрастности члена суда (решение Суда от 23 апреля 1996 г. по делу «Ремли против Франции»), было заявление одного из членов жюри суда ассизов о том, что он по убеждениям расист. Это заявление было сделано перед началом слушания дела по обвинению двух лиц алжирского происхождения. Оно было доведено до сведения председателя суда, который не придал ему значения.
Что касается объективного критерия, то в самой общей форме он расшифровывается Судом следующим образом: «Объективная оценка состоит в том, чтобы задать вопрос, не позволяют ли некоторые реальные факты заподозрить, что судья независимо от его личного поведения не беспристрастен. В этой связи даже внешняя видимость может приобретать значение. Речь идет о доверии, которое в демократическом обществе суды должны вызывать у тех, кто обращается в суд и привлекается к нему. Должен отказаться от участия в деле судья, в отношении которого возможно правомерное сомнение в его беспристрастности. Для вывода о наличии в конкретном деле законного основания усомниться в беспристрастности судьи мнение обвиняемого может учитываться, но оно не играет решающей роли. Определяющий фактор – уяснение того, могут ли опасения заинтересованного лица считаться объективно обоснованными» (решение Суда от 24 мая 1989 г. по делу «Хаушильд против Дании»). Однако эта общая формула не предопределила однообразие практики Суда.
Основная и при этом наиболее сложная сфера применения объективного критерия – это ситуации, когда судья, слушающий дело, участвовал в досудебном производстве по нему. Есть решения Суда, в которых такое участие рассматривается как несовместимое с беспристрастностью суда.
Однако имеется не менее длинный ряд решений, в которых Суд не посчитал участие судьи в досудебном производстве по делу основанием для сомнения в его беспристрастности в качестве судьи, участвующего в решении дела по существу [5].
Наибольшую сложность вызывает применение п. 3 ч. 1 ст. 16 ГПК РФ, когда судьи «лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в их объективности и беспристрастности».
Читать дальше