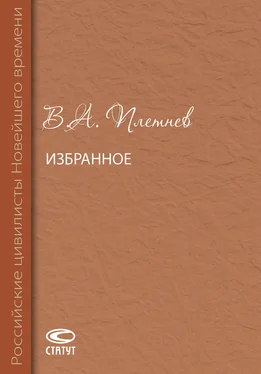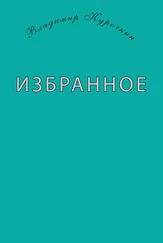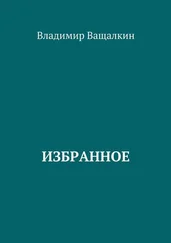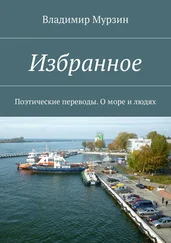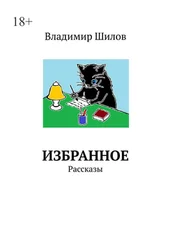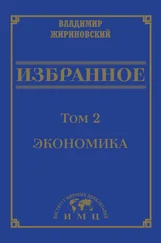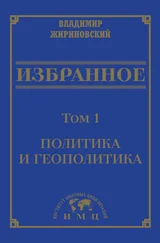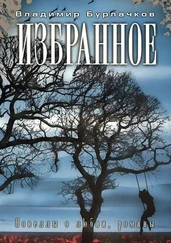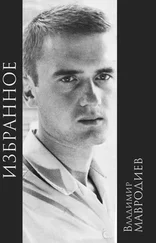В 80-е − начале 90-х гг. В.А. активно участвовал в работе по так называемым «хоздоговорам». Сейчас уже стало забываться соответствующее понятие: «институт заключает договор с каким-либо министерством, заводом» и т.п. Ну, скажем, хоздоговор по теме «Материально-техническое обеспечение производственного объединения в условиях перехода к рыночным отношениям» (такой договор был с одним из московских производственных объединений, руководителем темы был как раз В.А., а я участвовал в выполнении работ). Сотрудники института обобщают практику, анализируют состояние договорной работы, вырабатывают различного рода рекомендации (например, по определению размера убытков, причиненных поставкой продукции ненадлежащего качества) и т.д.
Такого рода работа приносила определенную пользу и институту, и сотрудникам, принимавшим участие в такой работе, и заказчику. Кроме банального желания заработать 7 7 Оплата примерно равнялась аспирантской стипендии. Иногда чуть больше (100– 150 руб.).
, работа по «хоздоговору» привлекала еще и тем, что благодаря ей можно было увидеть, как реализуется на практике то или иное положение закона, ощутить обусловленность правовых норм и практики их применения соображениями экономического или иного порядка, очень часто увидеть то, что не прочтешь ни в одной книге (некоторые явления напрочь игнорируются учеными, поскольку представляются порочными с точки зрения доктринальной, даже если они имеют всеобщее или достаточно широкое распространение, либо кажутся слишком мелкими с позиций юридической науки). Но ведь для того, чтобы они «казались» слишком «мелкими» (или «крупными»), их надо знать. Может быть благодаря в том числе работе по «хоздоговорам» В.А. в научной работе иногда, «уносясь в заоблачные выси», никогда не забывал вернуться на «грешную землю»: или отталкивался от какой-либо практической потребности, или стремился проследить, к каким практическим последствиям может привести реализация положения, сформулированного доктриной.
Очень внимательный к людям. Он обладал редким даром – он умел слушать и слышать человека. И понять его. С ним можно было посоветоваться, попросить о помощи. Помогал многим и многим. Словом и делом. (Сам не очень любил просить помощи.) Если, однако, он чувствовал «недобросовестность» говорящего (очевидную неправоту, обман, злоупотребление добрым отношением и т.п.), то проявлялся взрывной характер В.А. В моем присутствии некий «исследователь» как-то попытался изложить В.А. идею о формировании новой отрасли права. Разумеется, за счет права гражданского. Нет нужды говорить, о чем речь, дабы не пропагандировать, на мой взгляд, более чем сомнительные «вещи», тем более что они до сих пор не обнародованы. В.А. прервал настроившегося на длительный монолог «отца-основателя» достаточно резко: «Попытайтесь. Сомневаюсь, что из Ваших потуг что-то выйдет». Впрочем, в последние годы характер его существенно смягчился. В.А. стал гораздо более терпимым. Снисходительнее что ли. Не торопился судить людей (воистину: «Не судите, да не судимы будете»).
В.А. был очень яркий и разносторонний человек.
Прекрасно образованный. Говорящий на безупречном русском языке, не испорченном «внешним» (иноязычным) влиянием. К сожалению, такое «внешнее» влияние всегда было достаточно активным. В последние 15−20 лет мы узнали много «новых» слов и словосочетаний. Проявляется это и в праве. Жонглирование иностранными словами, не всегда понятными слушателю (читателю), вообще стало модным. По-видимому, он (слушатель, читатель) по замыслу говорящего (пишущего) таким образом должен почувствовать свою ущербность и восхититься образованностью (?) излагающего что-либо. В.А. такой метод подачи материала, да и просто способ общения был чужд. В то же время при обсуждении специально юридических проблем он мог легко вспомнить эквивалент какого либо понятия термина на немецком языке, которым владел свободно.
В.А. не был воинствующим радетелем чистоты русского языка. Но он никогда не мог сказать «ми́зерный», «обеспече́ние», «гене́зис» и т.п., хотя большинство именно так и говорит. Интересно, что при всем этом В.А., сам прекрасный стилист, восхищался речью одного из московских профессоров («Как он говорит!»). В.А. мог учить и умел учиться.
Трепетное отношение к русскому языку проявлялось и в том, что, проверяя студенческие курсовые или контрольные работы, В.А. просто не мог не расставить недостающие знаки препинания (или вычеркнуть лишние), исправить грамматические ошибки и т.п.
Читать дальше