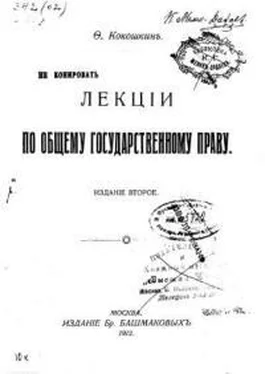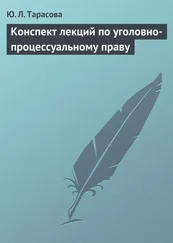В ином положении находятся посредственные, или подчиненные, органы государства, или, точнее, составляющие эти органы физические лица, которые обыкновенно называются "должностными лицами", или "чиновниками".
Прежде всего они могут быть устранены от должности без наступления события, точно предусмотренного юридическими нормами, только потому, что высший орган признает это необходимым в интересах государственного целого. Правда, в современных конституционных государствах такое устранение от должности применяется, безусловно, и без всяких ограничений обыкновенно лишь по отношению к лицам, занимающим так назыв. политические должности (министрам, губернаторам и т. п.). За другими должностными лицами большей частью признается право, гарантирующее их от субъективного произвола начальства. Но эта гарантия относится, собственно, не к положению чиновников в качестве органов, а только к почетным и имущественным правам, связанным с этим положением. Чиновнику гарантировано известное содержание, известный титул, и эти права его не зависят от произвола высших органов. Но он может быть, с сохранением этих прав, перемещен на другую должность или даже вовсе оставлен без определенной должности.
Нужно сказать, что есть и такие должностные лица, которые не могут быть лишены своего положения по усмотрению высшей власти, так назыв. несменяемые должностные лица. Сюда относятся судьи. Несменяемость судей — основное правило во всех культурных государствах. Но она вовсе не означает, что судье принадлежит субъективное право на свое место. Это будет ясно из следующего примера. Представим себе, что по ошибочному судебному приговору известный судья лишен своей должности, а потом ошибка выяснилась, и он был восстановлен в своих правах. Может ли он требовать, чтобы ему отдали то же самое место, которое он потерял и которое занято другим? Нет. Субъективного права на свою должность он не имеет. Напротив, ошибочно осужденный депутат парламента в случае отмены приговора может требовать обратно свое место в парламенте (разумеется, если еще существует тот состав парламента, в который он был избран).
Во-вторых, нужно указать еще одно различие между непосредственными и посредственными органами. Мы знаем, что субъективное право есть обеспечение возможности удовлетворения интереса посредством установления господства осуществляющей этот интерес воли над другой волей. В основе всякого субъективного права лежит, таким образом, признанный и защищенный объективным правом интерес. Следовательно, и принадлежащему известному физическому лицу праву быть органом государства должен соответствовать определенный индивидуальный интерес этого лица. В чем же заключается этот интерес? Конечно, предметом деятельности органов государства являются не индивидуальные интересы физических лиц, составляющих эти органы, а общественные интересы, благо государства как целого. Но самая возможность определять общественный интерес согласно своим политическим убеждениям, направлять государственную волю или повлиять на ее направление может являться предметом индивидуального интереса физического лица. Этот интерес есть интерес высшего порядка сравнительно, например, с интересами, лежащими в основе имущественных прав, но все же интерес индивидуальный, он и составляет основу субъективного права на органическое положение, принадлежащего непосредственным органам государства. Удовлетворение этого интереса возможно, однако, лишь тогда, когда человек, призванный к участию в образовании государственной воли, может в отведенной ему сфере влияния действовать свободно, руководясь своим собственным разумением государственного блага, а не указаниями других лиц. Вот почему непосредственные органы государства, имеющие субъективное право на свое положение (монарх, президент республики, депутаты парламента), не подчинены никаким другим органам и не могут ни от кого получать обязательных указаний относительно направления своей деятельности. Напротив, органы посредственные (чиновники) подчинены непосредственным органам и руководятся в своей деятельности их предписаниями. Подчиненные органы не имеют субъективного права на свое положение уже потому, что здесь нет необходимой основы для соответствующего такому праву интереса, нет возможности истолковывать государственный интерес и направлять государственную волю согласно собственным взглядам и убеждениям. Правда, из посредственных органов относительной свободой в своей деятельности пользуются судебные учреждения, но и в их положении, по общему правилу, нет условий, необходимых для возникновения субъективного права на должность, ибо, во-первых, все суды, за исключением высшего кассационного или верховного, подчинены обязательным для них указаниям этого последнего, а, во-первых, судебная деятельность, по самому существу своему, есть не самостоятельное определение общественного интереса в пределах закона, а исполнение воли законодателя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу