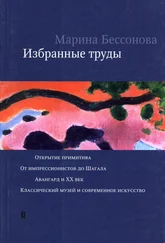Поэтому мы считаем более правильной позицию тех судов, которые наказывают как за оконченное хищение лиц, задерживаемых с похищенным имуществом в проходной будке фабрики, завода и т. д., то есть за пределами места надлежащего нахождения похищенного имущества (склада, помещения кассы и пр.). Вынос похищенного имущества через охраняемый выход рассматривается как часть процесса его использования, как реализация фактического владения вещью [521].
До сих пор в судебной практике, включая практику верховных судов союзных республик, иногда смешивается покушение на хищение с оконченным разбойным нападением. Подчас суды квалифицируют разбойное нападение, незавершенное похищением имущества, по не зависящим от субъекта обстоятельствам, как покуше ние на хищение. Подобную практику нельзя признать правильной. Разбойное нападение, совершенное с целью хищения чужого имущества, следует квалифицировать по соответствующим статьям одного из Указов от 4 июня 1947 г. без ссылки на ст. 19 УК РСФСР. К разбойному нападению, как ко всякому иному оконченному преступлению, в свою очередь, возможно приготовление или покушение.
Так, П., К. и другие организовали шайку с целью разбойного нападения на кассира керамико-плиточного завода им. Булганина в г. Москве. В день и час, когда кассир Ц. должна была получать в банке деньги для выдачи заработной платы рабочим и служащим завода и поехать с деньгами на завод, преступники на машине, которой управлял один из членов шайки, подъехали к заранее выбранному месту нападения, но были задержаны работниками управления Московского уголовного розыска. Народный суд 5-го участка Москворецкого района г. Москвы осудил виновных за приготовление к разбойному нападению по ст. 19 УК РСФСР и ст. 2 Указа «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» [522].
При преступлениях против личности наибольшую трудность представляет отграничение покушения на убийство и на причинение тяжкого телесного повреждения от легких телесных повреждений и оставления в опасности (ст. 143 и 156 УК РСФСР и соответствующие статьи УК других союзных республик). Эти трудности объясняются тем, что при покушении на убийство потерпевшему нередко фактически причиняются лишь легкие телесные повреждения. Но за этими фактически наступившими последствиями может скрываться более тяжкое преступление – покушение на убийство или, реже, покушение на тяжкое телесное повреждение.
Сложность доказывания умысла субъекта по делам о покушениях на преступления против личности привела проф. М. Д. Шаргородского к мысли о том, что для избежания трудностей, возникающих при решении этого вопроса, «целесообразно иметь в УК отдельные составы, однако с ответственностью не по последствиям, а по способу действия, так, чтобы отвечал тот, кто своими действиями ставил кого-либо в опасность, с учетом опасности тех средств, которые он применяет» [523].
Предложение проф. Шаргородского вызывает возражения. Состав поставления в опасность лица в зависимости от способов и средств его действия привел бы к своего рода «уравниловке» по делам о покушениях на преступления против личности. Практическое применение предложения проф. Шаргородского означало бы, по существу, ликвидацию института приготовления и покушения в преступлениях против личности. Оно помешало бы суду выявлять подлинные намерения субъекта, в результате чего виновный нес бы не соответствующее его вине наказание. При этом трудности квалификации, которых стремится избежать проф. Шаргородский, предлагая ввести в УК состав поставления в опасность в зависимости от применяемых средств преступления, фактически увеличатся. Подтверждением этому может служить хотя бы то обстоятельство, что и в настоящее время суды нередко испытывают затруднения при разграничении состава поставления в опасность (ст. 156 УК РСФСР) и покушения на убийство, хотя различие между ними, казалось бы, очевидно.
Для отграничения покушения на убийство от внешне сходных с ним составов оконченных преступлений – оставления в опасности и легкого телесного повреждения – необходимо четко установить действительный умысел лица. Умысел лица выясняется на основании всех фактических обстоятельств дела, взятых в их совокупности.
Среди этих обстоятельств особое значение имеет прежде всего характер применяемого орудия преступления, являющийся одним из веских доказательств подлинных намерений субъекта. Покушение на убийство или тяжкое телесное повреждение возможно лишь путем применения соответствующих орудий, которые по своему характеру способны лишить человека жизни или причинить ему тяжкое телесное повреждение. Таковы огнестрельное оружие, различные виды холодного оружия (ножи, кинжалы, бритвы, топоры и др.). Это не исключает применения и иных средств: веревок, иголок и т. д.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Владимир Кудрявцев Избранные труды [сборник] обложка книги](/books/402626/vladimir-kudryavcev-izbrannye-trudy-sbornik-cover.webp)