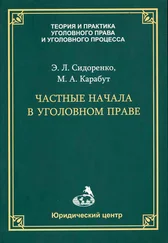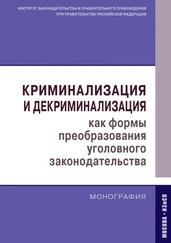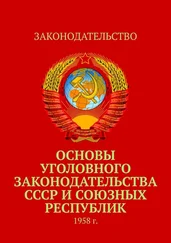В наиболее общем виде, характер – это качественная сторона посягательства, а степень опасности – его количественная характеристика. К сожалению, в УК РФ отсутствуют определения данных понятий, что создает значительные трудности в правоприменительной деятельности.
В доктрине уголовного права бытует мнение, что общественная опасность определяется объектом посягательства, а степень – причиненным вредом. Думается, эта формулировка вследствие своей упрощенности не может охватить все многообразие возможных ситуаций.
Предлагается также более развернутое толкование, согласно которому «характер общественной опасности зависит от объекта посягательства, содержания причиненного вреда, особенностей способа посягательства, вида вины, содержания мотивов и целей преступления. А степень общественной опасности определяется величиной ущерба, характером вины, стойкостью низменных мотивов и целей, сравнительной опасностью посягательства в зависимости от места, времени, обстоятельств совершения преступления» [413].
Между тем Пленум ВС РФ рекомендует признать, что характер общественной опасности определяется тремя обстоятельствами: объектом посягательства; формой вины и категорией преступления.
На наш взгляд, можно признать лишь одно из указанных обстоятельств – объект посягательства. Связывая форму вины с характером общественной опасности, Верховный Суд, на наш взгляд, допускает терминологическую ошибку: он отождествляет понятия «общественный характер преступления» и «общественный характер опасности преступления».
Между тем с точки зрения вредоносности посягательства не имеет значения, совершено ли деяние умышленно или по неосторожности. Что же касается категории преступлений, то она зависит, согласно ст. 15 УК РФ, от характера и степени общественной опасности деяния. А это явная тавтология.
На наш взгляд, характер общественной опасности должен определяться объектом посягательства, а ее степень – определенными обстоятельствами происшедшего: содержанием и величиной возможного или причиненного вреда, особенностями способа посягательства.
Между защитой и посягательством, как это вытекает из определения превышения пределов необходимой обороны, должно быть явное несоответствие.
Явность предполагает внешнее резкое различие между действиями обороняющегося и нападающего. В то же время этот признак является и объективным и субъективным критерием эксцесса обороны.
Как объективный критерий явность выражает фактическое несоответствие защиты характеру и опасности посягательства, т. е. в тех случаях, когда нет явного разрыва между причиненным вредом и вредом угрожаемым, то нет и превышения пределов необходимой обороны.
Как субъективный критерий явность требует, чтобы несоответствие было заведомым для защищающегося. Допустимый характер обороны не изменяется и в случаях ошибки относительно содержания посягательства, преувеличения опасности нападения или причинения при обороне объективно лишнего вреда нападающему.
Нельзя согласиться с В. И. Ткаченко в том, что превышение пределов необходимой обороны возможно лишь при явном несоответствии причиненного вреда тому, который был возможен от действий потерпевшего. [414]Автор не учитывает, что причиненный вред, хотя и бывает часто соразмерным вреду предотвращенному, но явно не соответствует обстановке защиты.
Поэтому под превышением пределов необходимой обороны следует понимать такую защиту от общественно опасного посягательства, которая содержит заведомо для обороняющегося несоответствие между вредом, причиненным посягающему, и опасностью посягательства, либо между вредом и обстановкой защиты. [415]
В юридической науке сложилась традиция выделять два вида эксцесса обороны: несвоевременную и чрезмерную оборону. Однако это весьма спорная классификация.
В доктрине уголовного права весь спектр мнений относительно несвоевременной обороны можно представить следующим образом: одни видят в ней необходимую оборону, другие – превышение ее пределов; третьи – умышленное причинение вреда; четвертые – неосторожное преступление.
Так, И. С. Тишкевич высказывает мнение, что «несвоевременной признается такая оборона, которая предпринята до возникновения у лица права на необходимую оборону или после того, как это право прекратилось». [416]
По мнению В. Ф. Кириченко, «при нарушении границ необходимой обороны во времени состояние обороны уже отсутствует вследствие отсутствия нападения; следовательно, в этих случаях… не может быть речи о превышении необходимой обороны» [417].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу