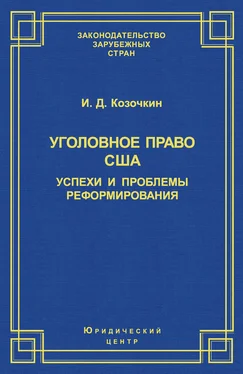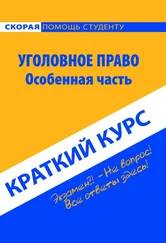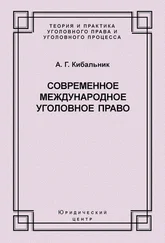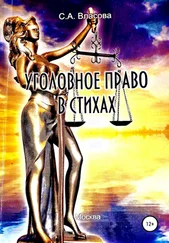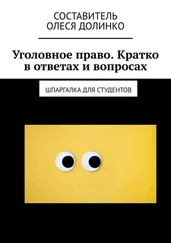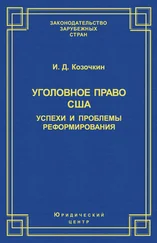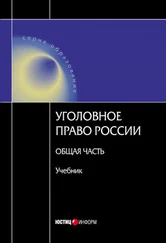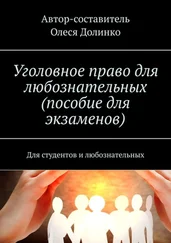Весьма сложным и, по признанию многих американских ученых, запутанным в уголовном праве является вопрос субъективной стороны соучастия, а именно – при наличии какой формы вины (виновности) лицо может быть признано соучастником преступления. Сложившееся положение в значительной степени обусловлено различиями в языке, терминологии, которую используют судьи [690]и законодатели. Так, например, в одних статутах говорится о том, что соучастником является лицо, которое «намеренно» [691]или «осознанно» [692]помогает или вызывает решимость (побуждает) совершить преступление, в других – лицо, оказывающее помощь или поддержку «с намерением содействовать совершению преступления или облегчить его совершение», [693]в третьих – о том, что помощь и поддержка должны быть оказаны лицом, «действующим в психическом состоянии (состоянии психической виновности), требуемом для совершения посягательства». [694]Здесь следует отметить, что в некоторых статутах, например в УК Калифорнии (ст. 31) и в так называемом Федеральном УК (ч. 1 ст. 2), формы виновности вообще не указаны. По-видимому, учитывая сложность вопроса, законодатели этих юрисдикций отдали его решение «на откуп» судьям.
Нередко суды, рассматривая соответствующие дела, отмечают, что лицо может быть признано соучастником преступления, если оно намеренно или с целью [695]помогает исполнителю его совершить. Но «намерение» или «цель» в рамках данного института, по мнению американских ученых, следует рассматривать в двух аспектах. Во-первых, как mens rea в отношении оказания помощи (содействия) исполнителю осуществить поведение, которое составило преступление, а во-вторых, как mens rea, требуемое для совершения преступления. Если эти два аспекта налицо, то обвиняемый признается соучастником преступления. В одном судебном решении, вынесенном в штате Нью-Джерси в 1968 г., отмечалось: чтобы быть соучастником, лицо «не только должно иметь цель, чтобы кто-то еще осуществил поведение, которое представляет собой конкретное инкриминируемое преступление, но соучастник должен также разделять (иметь единое. – И. К.) намерение, которое требуется для совершения основного посягательства». [696]Такое или подобное высказывание – не редкость в судебной практике, но там же встречаются случаи (дела), когда трудно установить это единство или общность намерения. Вывод о наличии второго mens rea может быть сделан, исходя из доказанности первого. [697]Однако так бывает далеко не всегда, поскольку встречаются довольно сложные ситуации, например, дело Эцвейлера, рассмотренное в 1984 г. в штате Нью-Гэмпшир.
Суть его такова: обвиняемый дал ключи от своей машины приятелю по работе, который, как ему было известно, находился «под градусом»; через 10 минут после начала езды тот столкнулся с другой машиной, в результате чего погибли два человека, за что ему было предъявлено обвинение в совершении простого убийства. [698]Исходя из фактических обстоятельств дела, можно сказать, что обвиняемый, дав ключи от своей машины приятелю, действовал с целью (намеренно) в отношении содействия в осуществлении поведения, составляющего посягательство – вождение машины в нетрезвом состоянии. Но он мог быть признан действовавшим только по небрежности в отношении содействия приятелю в причинении смерти людей, так как он должен был понимать, предвидеть, что его «услуга» чревата серьезными последствиями.
Вопрос о том, может ли лицо быть признано соучастником преступления, если оно имело два разных mens rea (две разные формы виновности), вызвал серьезные разногласия между судьями, которые большинством голосов, сославшись на ст. 626:8 УК Нью-Гэмпшира, [699]дали отрицательный ответ, и учеными. Так, П. Робинсон считает, что их мнение, согласно которому лицо может быть признано соучастником, если оно действовало с целью не только в отношении содействия поведению исполнителя, но и совершению преступления (реализации всех его элементов), означает повышение требований к установлению ответственности за соучастие, и, как следствие, – уменьшение возможностей возложения ответственности за соучастие в преступлении. [700]Требование «цели», далее пишет он, может служить препятствием для привлечения к ответственности за соучастие даже в таком преступлении, как тяжкое убийство. [701]
По-видимому, чтобы не допустить практики «ухода» от ответственности за соучастие в преступлениях, составители Примерного УК исключили применимость требования «цели» к элементу результата преступления: для признания лица соучастником необходимо, чтобы оно имело «форму виновности, если таковая у него имеется, в отношении результата, которой достаточно для совершения конкретного посягательства» (п. 4 ст. 2.06). Таким образом, для признания обвиняемого по делу Эцвейлера соучастником в убийстве по небрежности по Примерному УК достаточно было бы доказать, что он допустил небрежность в отношении причинения смерти, когда он дал ключи от своей машины приятелю. [702]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу