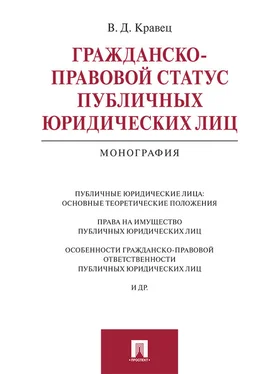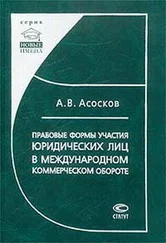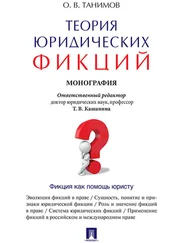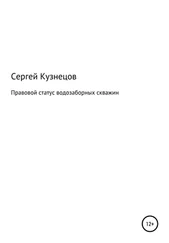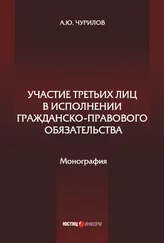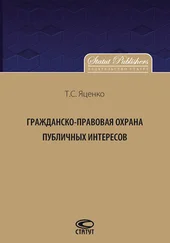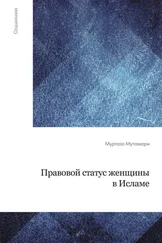Что же касается нормы п. 3 ст. 125, то ее применение действительно рассчитано на случаи участия в гражданском обороте граждан и юридических лиц как представителей публично-правовых образований. Включение в этот пункт государственных органов необходимо признать случайным, что может быть объяснено использованием при разработке действующего Гражданского кодекса научных трудов и законодательства периода существования Союза ССР. В науке советского права во всех случаях, когда речь шла об участии в гражданских правоотношениях государственных органов, под ними было принято понимать не только органы государственной власти и управления, но и различные государственные организации – государственные предприятия и учреждения, тресты, комбинаты и др 119. В качестве иллюстрации можно привести следующее высказывание С. Н. Братуся: «Советское государство – единственный субъект права социалистической собственности, а учреждения и предприятия суть лишь его органы, последние являются юридическими лицами» 120. Аналогичное понимание государственного органа находим и в трудах А. В. Венедиктова: «для советского права проблема правовой природы социалистического госоргана… должна решаться с учетом не только административных госорганов, но и хозяйственных и социально-культурных госорганов…», «на которые возложено непосредственное оперативное управление предоставленными им государственными имуществами» 121. Такое широкое понимание государственных органов в советской правовой науке объясняется прежде всего специфической ролью государства в системе хозяйствования, когда государство становится единственным собственником средств производства и основным участником хозяйственного оборота. В таких условиях, как верно замечает Д. В. Пятков, «статус юридического лица становился обязательным сущностным признаком многих государственных органов» 122. Для управления государственным имуществом советским государством создаются юридические лица – несобственники, вступающие в гражданский оборот как его органы с целью проведения единой хозяйственной политики и осуществляющие свою деятельность на основе утвержденного плана.
В современном мире подобный подход к пониманию государственных органов характерен для законодательства ФРГ, где под государственным органом, в широком смысле слова, понимается любая государственная или негосударственная организация, выполняющая публичные функции 123. Вместе с тем проводится четкое различие в правовом статусе и порядке функционирования государственных органов в узком смысле слова, представляющих собой органы непосредственного государственного управления, и государственных органов в широком смысле слова.
Представляется, что именно широкий смысл вкладывался российским законодателем в употребляемый в п. 3 ст. 125 ГК термин «государственные органы», что объясняет необходимость специального поручения и отождествление статуса государственного органа со статусом юридического лица как самостоятельного субъекта права. Однако в современных условиях, когда основой всех имущественных отношений является преобладание частной формы права собственности, а производство перестает быть предметом исключительного интереса государства как хозяйствующей единицы, для включения в понятие государственных органов юридических лиц, создаваемых государством, не остается оснований.
Следует признать, что государственные органы как элементы административно-политической системы государства вступают в гражданский оборот от имени и в интересах государства в рамках своих полномочий, для чего им не требуется специальных поручений и статуса самостоятельного субъекта права. Отказ от самостоятельной правосубъектности государственных органов, на наш взгляд, является единственным способом разрешить существующую сегодня в юридической науке и практике проблему разграничения участия в гражданском обороте государства и его органов как самостоятельных субъектов. Как верно замечал М. И. Брагинский, «…система как таковая не может выступать в гражданских правоотношениях наряду с ее отдельными звеньями», подобную ситуацию следует рассматривать «как нарушение «правил игры», которые определяют режим выступления в гражданском обороте коллективных образований» 124. Нарушение основополагающих принципов реализации правосубъектности коллективного образования не позволяет современной цивилистической науке выработать критерии разграничения случаев участия в гражданском обороте государственных органов от своего имени и от имени публично-правового образования.
Читать дальше