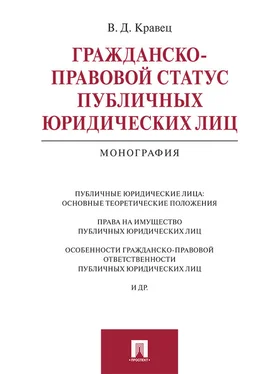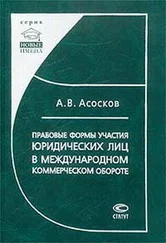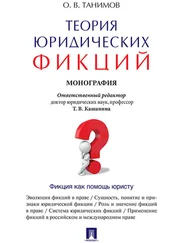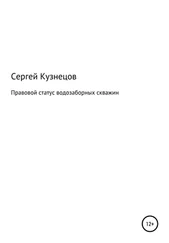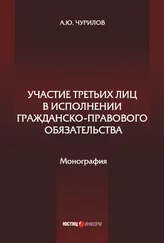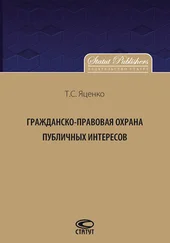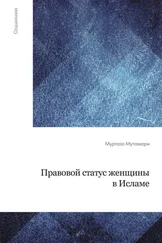В соответствии с п. 1 ст. 124 ГК Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, а также муниципальные образования выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений – гражданами и юридическими лицами. Принцип равенства публично-властных образований с другими участниками гражданского оборота конституируется самой сущностью гражданских правоотношений, которая не допускает властного господства одного субъекта над другим. Он активно используется в судебной практике: в частности, необходимостью обеспечения равенства участников гражданских правоотношений суды обосновывают недопустимость освобождения публично-правового образования от ответственности или снижения ее размера со ссылкой на отсутствие соответствующих средств в бюджете или недостаточность финансирования 143. Указывая в целом на позитивную направленность сложившейся практики, необходимо отметить ее недостаточность для полного нивелирования возможности использования публичными образованиями своих властных полномочий в гражданском обороте. Это прежде всего объясняется исключительным публично-правовым статусом рассматриваемых субъектов. Государствоподобные субъекты, обладающие исключительным правом на создание норм права и обеспечение их исполнения, в том числе путем применения насилия, не склонны к самоограничению. Сторонники так называемой «теории общественного выбора» трактуют государство как своего рода монополию, поведение которой во многом схоже с поведением любой другой монополии на рынке 144. Для обеспечения равенства субъектов гражданского права, вступающих в отношения с публично-правовыми образованиями, не достаточно сложившейся и единообразной судебной практики, необходимо создание специальных законодательных механизмов, которые позволили бы ограничить влияние публичной правосубъектности рассматриваемых образований на формирование и реализацию их правосубъектности в сфере частного права. Последовательный отказ государства от властных полномочий, от олицетворяемой им публичной власти, как принципиальное условие его вступления в гражданский оборот 145, является идеальной теоретической конструкцией, реализация которой зачастую просто невозможна уже в силу исключительного права государства на создание гражданско-правовых норм.
Анализ современного законодательства, опосредующего интересы государства в частноправовой сфере, позволяют сделать вывод о постоянной корректировке его положений в соответствии с потребностями этого участника гражданского оборота. Об этом свидетельствует введение в законодательство так называемых ad hoc норм, рассчитанных на применение к одному-единственному субъекту. Из всех участников гражданского оборота только государство может каждый раз создавать для учреждаемых им юридических лиц уникальные организационно-правовые формы, иным участникам оборота приходится выбирать наиболее отвечающую их интересам форму из закрепленных в законодательстве.
В современной юридической литературе зачастую преобладает негативная оценка конструкции публичного юридического лица, известной большинству современных правопорядков. Главным аргументом критиков предложений о введении в российское законодательство категории публичного юридического лица является историческая и национально-культурная обусловленность данного статуса в большинстве стран, законодательство которых оперирует рассматриваемым понятием, что предопределяет отсутствие в зарубежных странах единого подхода к содержанию данной категории 146. Соглашаясь с данным тезисом, необходимо, однако, заметить, что в каждом из анализируемых авторами правопорядков данная категория используется для оформления статуса субъектов, целью участия которых в гражданском обороте является удовлетворение публичных интересов, что уже исключает абсолютное отсутствие общности. В зависимости от существующих потребностей категория публичного юридического лица может опосредовать статус публично-правовых образований, юридических лиц, наделяемых публичными функциями, или решать обе эти задачи. В связи с чем в настоящий момент нет препятствий для заимствования категории публичного юридического лица российским законодательством в целях более четкого определения гражданско-правового статуса юридических лиц, выполняющих функции управления государственным и муниципальным имуществом, а также создания ограничений для постоянных изменений законодательства в рассматриваемой сфере, особенно с учетом того, что данная категория не является абсолютно чуждой российскому законодателю на протяжении всей истории развития российской государственности, а также уже имеющейся практики использования рассматриваемого понятия российскими судами 147. Вместе с тем необходимо согласиться с Е. А. Сухановым относительно того, что введение анализируемой нами категории не должно явиться «очередной «сменой вывесок», ничего не меняющей по существу» 148.
Читать дальше