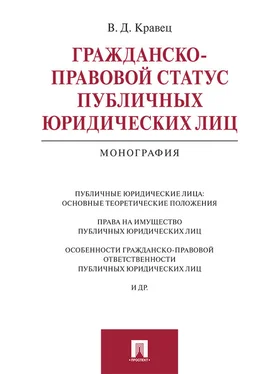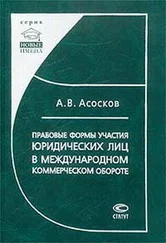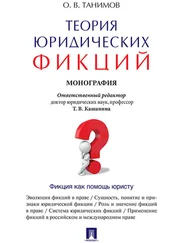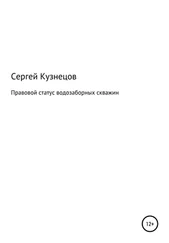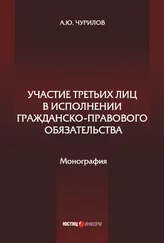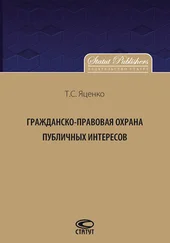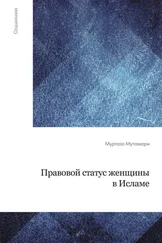В цивилистике отсутствует разработанное понятие государственного органа и органа государственной власти, что и не позволяет провести между ними четкую демаркационную линию. Для этого, видимо, необходимо обратиться к исследованиям, проводимым в рамках юридических наук публично-правового цикла, для которых институты государственных органов и органов государственной власти являются традиционным объектом исследования. Однако анализ обозначенных трудов показывает, что зачастую учеными рассматриваемые понятия употребляются как синонимы, а проблема соотношения лишь обозначается, не находя своего полноценного разрешения 111. Те же ученые, которые проводят различие между государственными органами и органами государственной власти, указывают на наличие у последних специальных государственно-властных полномочий, не свойственных государственным органам. Так, например, О. Е. Кутафин и Е. И. Козлова указывают, что государственные органы осуществляют, как правило, различные вспомогательные, совещательные и другие такого рода функции 112. Аналогичной точки зрения придерживается и Е. А. Ромашко, указывая на то, что всякий орган государственной власти является государственным органом, но не всякий государственный орган обладает присущими органу государственной власти властными полномочиями, на основании чего и необходимо проводить различия между ними 113. В качестве дополнительных критериев разграничения автор указывает на отсутствие у государственных органов статуса юридического лица, невозможность выступления в гражданском обороте от своего имени, а также выполнение ими «вспомогательных» функций для обеспечения надлежащего функционирования органов государственной власти. К сожалению, автор не указывает, как эти дополнительные критерии в части отсутствия статуса юридического лица соотносятся с п. 3 ст. 125 ГК, предусматривающим наличие отношений представительства между публично-правовым образованием и государственным органом, который в этом случае должен признаваться самостоятельным субъектом права. Справедливости ради стоит заметить, что автор указывает на определенную условность дополнительных критериев, не исключая возможности наделения государственного органа статусом юридического лица в нормативном порядке 114.
Демаркация органов государственной власти и государственных органов на основе присущих им властных полномочий свойственна и науке гражданского права. Например, Ю. Н. Андреев, говоря о необходимости различия рассматриваемых нами понятий, отмечает, что оно должно проводиться на основании п. 1 ст. 11 Конституции РФ, в которой прямо перечислены органы, осуществляющие государственную власть, а следовательно, только они и могут быть признаны органами государственной власти 115. Однако судебная практика идет по другому пути, относя к органам государственной власти, помимо названных в Конституции Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ и судов РФ, также и иные органы как федерального уровня, так и уровня субъектов РФ 116. Кроме того, суды зачастую не проводят различия между порядками, закрепленными в п. 1 и п. 3 ст. 125 ГК. Не выясняя, вступает ли орган публично-правового образования в гражданский оборот в рамках своей компетенции или по специальному поручению в разовом порядке, суды предпочитают в своих решениях одновременно ссылаться на п. 1 и п. 3 ст. 125 ГК, расценивая их как равнозначные 117. Более того, в постановлении Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 14 ноября 2011 г. № Ф03–5218/2011 в ссылке на п. 3 ст. 125 ГК изложено содержание п. 1 ст. 125 ГК. Таким образом, п. 3 ст. 125 ГК имеет самостоятельное употребление только в случае вступления в гражданский оборот от имени публично-правового образования граждан и юридических лиц.
Необходимо согласиться с мнением ученых, которые не видят оснований для разграничения понятий «государственные органы» и «органы государственной власти», по крайней мере в рамках отношений, регулируемых гражданским законодательством 118. Уже в силу того, что различие это основывается на понятии властных полномочий, а в гражданском обороте участвуют юридически равные субъекты, что предполагает отказ гражданского законодательства от категорий подобного рода. Представляется, что как только речь заходит о властных полномочиях того или иного субъекта, мы переходим из области частного права в сферу права публичного и, следовательно, ни о каком гражданском обороте, в подлинном смысле этого слова, речи идти не может.
Читать дальше