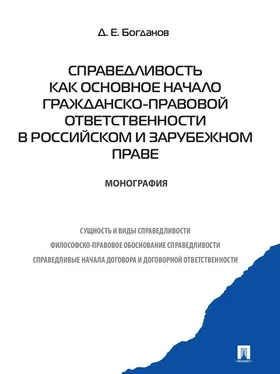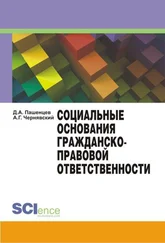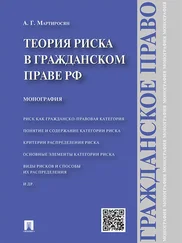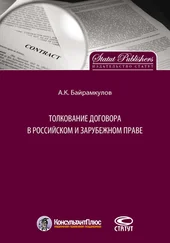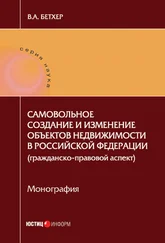Таким образом, идет речь об усилении не столько корректирующей, сколько дистрибутивной (распределительной) и ретрибутивной (воздающей) справедливости в данной области путем установления строгой (безвиновной) ответственности с абсолютным запретом ее корректировки договором в сторону уменьшения размера возмещения.
Как отмечает в связи с этим Грегори Китинг, основной задачей гражданско-правовой ответственности должно быть справедливое пропорциональное распределение бремени и выгоды полезных, но рисковых видов деятельности. Таким образом, тот, кто пожинает выгоды, должен и нести бремя – это цена присутствия в социальном мире. Будет несправедливым, если субъект рисковой деятельности будет перелагать бремя ущерба от такой деятельности на потерпевших, оставляя за собой только выгоду 166. Таким образом, справедливо, чтобы предприниматели извлекали прибыль от изготовления и продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг, но одновременно они обязаны и нести безвиновную ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков данных товаров, работ или услуг. Это цена их присутствия в социальном мире.
Усиление ретрибутивной справедливости проявляется и в том, что, помимо возмещения вреда, потерпевший вправе также потребовать компенсации морального вреда, даже в ситуациях, когда были нарушены только его имущественные права. Это вытекает из анализа положений п. 2 ст. 1099 ГК РФ и ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей».
Можно утверждать, что происходит очаговое взаимодействие договорной и деликтной ответственности, что является проявлением тенденции, связанной с частичным преодолением классического деления обязательств (следовательно, и ответственности) на деликтные и договорные. Расширяется сфера императивной ответственности за нарушение договорных обязательств с очевидным креном в сторону реализации целей ретрибутивной и дистрибутивной справедливости.
В связи с этим вызывает интерес то обстоятельство, что указанные выше позиции Майкла Джонса и Г. Гилмора взаимно согласуются относительно того, что право настоятельно движется к системе обязательств, основанных на законе. Еще более четко данная тенденция отражена в работах Е.В. Богданова, указывающего, что по мере усиления публичности в том или ином виде предпринимательской деятельности, заинтересованности общества в определенных товарах, работах и услугах государство устанавливает все большее число всевозможных условий, относящихся к существенным или необходимым. Таким образом, все в большей мере происходит отход от принципа свободы договора, от понимания договора как соглашения сторон. Воля предпринимателей все в большей степени подпадает под жесткую регламентацию, а сам договор, как правовая форма, эволюционирует в сторону фикции договора 167.
В то же время, если модели и существенные условия договора императивно диктуются законом и закон прямо предусматривает основания, содержание и объем ответственности за нарушение договорных обязанностей, то возникает вопрос, является ли такая императивная ответственность договорной. В известной мере, на наш взгляд, речь идет о справедливой императивной ответственности в силу закона. При этом названная императивность направлена на усиление дистрибутивных и ретрибутивных начал в сфере ответственности за нарушение договора.
Необходимо отметить, что общая легальная модель ответственности 168(т. е. ответственность по общему правилу, если иное не предусмотрено законом или договором) во многом является проявлением корректирующей справедливости, поскольку традиционно компенсационно-восстановительная функция рассматривается в качестве основной функции гражданско-правовой ответственности.
Так, ст. 15 и 393 ГК РФ устанавливают право на возмещение убытков в полном объеме. Согласно п. 1 ст. 394 ГК РФ установлен по общему правилу зачетный характер неустойки, поскольку если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. В силу п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер данных процентов определяется на основании ставки рефинансирования ЦБ РФ 169, они также носят зачетный по отношению к убыткам характер. Как отмечается в одном из Постановлений Президиума ВАС РФ, указанная ставка рефинансирования по существу представляет собой наименьший размер платы за пользование денежными средствами в российской экономике, что является общеизвестным фактом. Поэтому уменьшение взыскиваемой суммы ниже ставки рефинансирования возможно только в чрезвычайных случаях, а по общему правилу не должно допускаться, поскольку такой размер санкции не может являться явно несоразмерным последствиям просрочки уплаты денежных средств 170.
Читать дальше