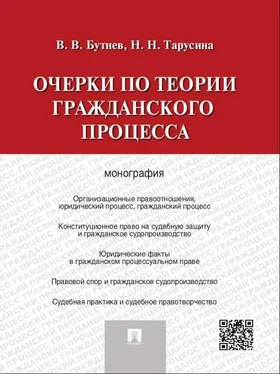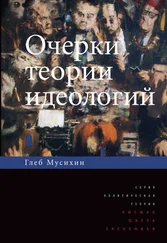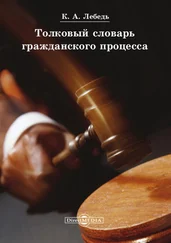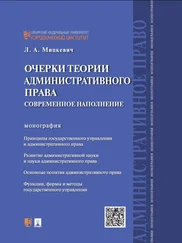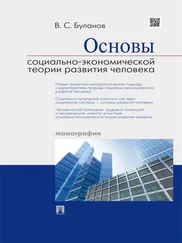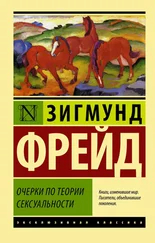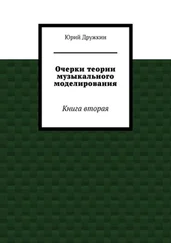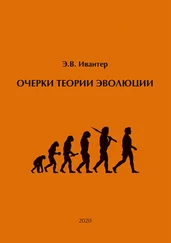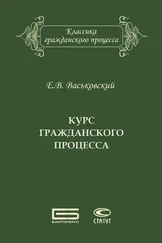Классический вариант механизма судебной защиты субъективных прав изложен в трудах М.А. Гурвича. Роль суда в таком механизме неразрывно связана с понятием иска и права на иск в материальном праве. М.А. Гурвич полагал, что иск в материальном смысле означает право требования, направленное к другому лицу. Это субъективное право. Однако оно обладает одним специфическим свойством, а именно – способностью быть осуществленным в принудительном порядке (как правило, через суд). О праве, достигшем состояния такой способности, можно говорить как о зрелом требовании. Такая зрелость наступает в условном праве с наступлением условия в требовании, снабженном отлагательным сроком, с наступлением срока. Некоторые требования обладают зрелостью с момента их возникновения, то есть сразу же способны к немедленному принудительному осуществлению (например, требование из причинения вреда) 90.
«Готовность права требования к принудительному (как правило, через суд) осуществлению не представляет собой какое-либо отдельное от этого права, самостоятельное субъективное право. Напротив, его содержание полностью определяется содержанием того требования, которое, созрев, представляет собой иск. Поэтому иск является не новым правом, возникающим наряду и на основании требования, а его особым и притом юридически важнейшим состоянием…
Состояние права на иск может характеризоваться как боевое, активное, ибо принуждение рассматривается в качестве применения государственной власти к неисправному должнику, а право на иск, подобно пружине, готово развернуться в исполнении обязанности помимо (т. е. независимо от) воли лица обязанного» 91.
Правонарушение, по мнению М.А. Гурвича, изменяет правовое положение не только кредитора, но и должника, превращая его ранее существовавшую обязанность в юридическую ответственность, состояние подчинения возможной реализации принуждения через суд по требованию истца 92. У М.А. Гурвича право на иск и ответственность остаются элементами правоотношения, существовавшего до правонарушения 93. Правонарушение не порождает новых правоотношений, а лишь приводит ранее существовавшие в состояние спора. «Пройдя в качестве предмета судебного рассмотрения и защиты через горнило судебного процесса, это материальное правоотношение приобретает определенность и бесспорность» 94.
Первое, на что следует обратить внимание, – ограниченность сферы применения данной концепции. Она пытается объяснить механизм защиты только гражданских прав и родственных им (семейных, трудовых), то есть субъективных прав в правоотношениях юридического равенства. Концепция М.А. Гурвича никак не объясняет механизм защиты прав и интересов, а также реализации ответственности в публично-правовых отношениях (уголовных, административных, финансовых и т. п.). Трудно представить себе, что процедура отрешения президента от должности (импичмент) является принудительной реализацией чьего-либо конституционного притязания, а привлечение к уголовной или административной ответственности – принудительной реализацией права государства требовать от граждан соблюдения уголовно-правовых или административных запретов. Даже в сфере гражданского судопроизводства критикуемая концепция не объясняет механизма защиты в производстве по делам, возникающим из публичных правоотношений, и в делах особого производства, где трудно углядеть принудительную реализацию какого-либо субъективного права «в боевом состоянии». Не объясняет данная теория, каким образом субъективное право собственности в случае его нарушения или уничтожения (при уничтожении вещи – объекта такого права) может перейти в состояние относительного виндикационного, негаторного, деликтного или кондикционного требования. Абсолютно не приспособлена данная концепция для объяснения механизма защиты охраняемых законом (законных) интересов, у обладателей которых вообще нет никаких регулятивных прав, опосредующих эти интересы, а механизм защиты таких интересов, в том числе и судебный, тем не менее, нашел законодательное закрепление.
Все сказанное свидетельствует о том, что критикуемая концепция не в состоянии объяснить правовые последствия нарушения субъективных прав и интересов в различных областях общественной жизни. Более того, она не соответствует законодательству, предусматривающему гораздо более разнообразные способы и средства защиты, чем только принудительное осуществление нарушенного права.
Читать дальше