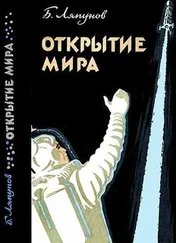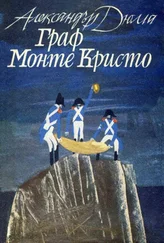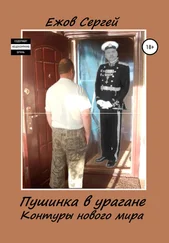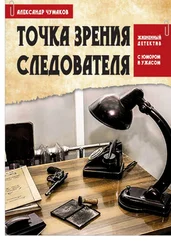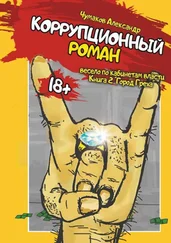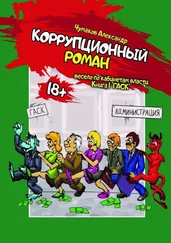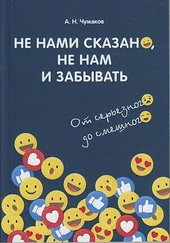Ниже мы еще не раз столкнемся с этим эффектом позднего восприятия , когда обратимся к генезису процессов глобализации и последствиям, которые они вызывают, а также увидим, как недооценка данного явления может лежать в основе того, что следствие начинает ошибочно восприниматься как причина , тогда как истинные причины выглядят следствиями .
Нужно отметить, что рассмотренный эффект позднего восприятия находится в тесной связи с принципом дисплея , так как повышенное внимание к какой то одной проблеме или ограниченному кругу вопросов оставляет как бы в тени другие темы и проблемы, которые должны достаточно сильно обостриться, чтобы вызвать к себе первостепенный интерес. Но, будучи открытыми в результате «позднего восприятия», новые факты и явления вытесняют с «экрана» сознания прежние темы и, в свою очередь, затеняют остальную проблематику.
* * *
Обратим внимание и на такое обстоятельство, имеющее важное значение в данном исследовании, как необходимость наглядно иллюстрировать, схематизировать подвижные динамические процессы .
В стремлении лучше понять историю и сопутствующие ей события, процессы, изменения, трансформации обычно прибегают к ее реконструкции, используя, как правило, всевозможные схемы, упрощения, мысленное разбиение непрерывного процесса на части и т. п. То же происходит, когда обращаются к истории или к будущему науки, техники, взаимодействию природы и общества, становлению каких либо иных процессов, а именно – прибегают к различного рода градациям, выделяя в них те или иные этапы, фазы, стадии, ступени, уровни, периоды, эпохи . Однако обычно мало кто аргументирует, почему предпочтение отдается какой то конкретной градации и на каком основании выделяются одни и остаются без внимания другие факты и события. Иначе говоря, редко уделяется должное внимания тому, чтобы пояснить, какие основания деления лежат в основе предлагаемой классификации, градации, периодизации и т. п. В итоге сплошь и рядом – нагромождение всевозможных «переходов» и революций, типов цивилизаций, различных эпох, периодов, наконец, глобализаций, разобраться в которых подчас не представляется возможным, потому что отсутствуют указания на основания их выделения, но зато, как правило, всегда просматриваются субъективные оценки и предпочтения соответствующего автора.
Важно иметь в виду и то, что, предлагая какую либо схематизацию, выделяя в историческом процессе различные этапы, периоды, поворотные пункты, тем самым предпринимают попытку реконструировать, систематизировать, соотнести и упорядочить исторические события, которые на самом деле могут существенно отличаться от предлагаемых схем. Другими словами, здесь важно проводить различие между тем, «что случилось» и «рассказом о том, что случилось», ибо одни и те же события могут быть рассмотрены также и с другой стороны, в оригинальном ракурсе, с акцентом на другие обстоятельства. При этом иная периодизация или новая схема выглядит, как правило, иначе, чем уже имеющиеся, и зачастую не решает прежних задач. Тем не менее она может оказаться не менее ценной, ибо с новой точки зрения нередко открываются и новые подходы, и принципиально иное видение старых проблем, что, в свою очередь, может позволить изменить или скорректировать устоявшиеся представления и открыть возможности для решения как прежних, так и новых задач.
Итак, к любой схеме, периодизации, выделению этапов, как и ко всякому иному, методологически оправданному упрощению, следует относиться с известной долей условности, понимая, что живой исторический процесс на самом деле всегда гораздо более сложное явление, чем это можно изобразить на схеме, в таблицах, графиках, на оси координат и т. п.
* * *
Наконец, последнее, о чем следовало бы сказать в методологических замечаниях и что вызывает споры даже у серьезных специалистов: что появилось раньше – глобализация или глобальные проблемы? «Очевидность» ответа для некоторых заключается в следующем: о глобальных проблемах много было сказано и написано задолго до того, как появился термин «глобализация». Отсюда делается соответствующий вывод – глобальные проблемы предшествовали глобализации. Однако это весьма напоминает одну из знаменитых апорий древнегреческого философа Зенона Элейского «Пшеничное зерно», где он показал, как наши чувства могут обманывать нас, в то время как разум выводит на путь истинный [13] Суть данного противоречия состоит в том, что, когда падает одно зерно, мы не слышим звука, но когда высыпают целый мешок зерна, звук слышен хорошо. Отсюда Зенон сделал вывод, что чувства в познании менее достоверны, чем разум, ибо могут обманывать нас, тогда как разум является орудием достижения истины, которая доступна только мышлению.
.
Читать дальше
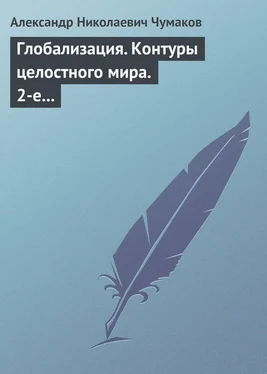

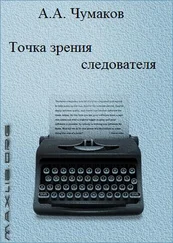
![Александр Огулов - Желчный пузырь. С ним и без него[Издание четвертое дополненное]](/books/169017/aleksandr-ogulov-zhelchnyj-puzyr-s-nim-i-bez-nego-thumb.webp)