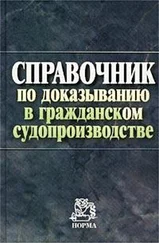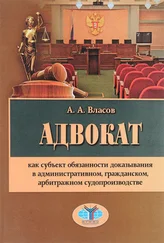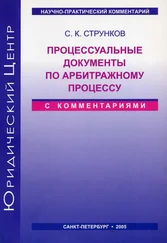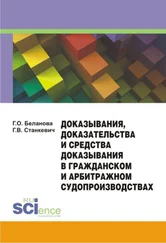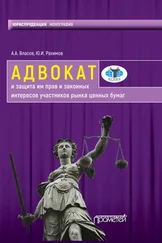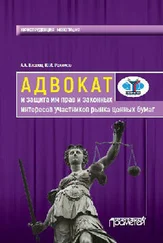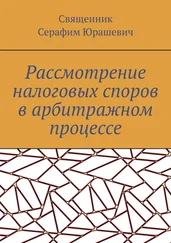При сравнении указанного подхода с тем, который принят в уголовно-процессуальной литературе, можно заметить существенное отличие. Ученые, работающие в области уголовно-процессуального доказывания, трактуют исследование шире, включая в него не только познание субъектом содержания, но и некоторые аналитические моменты. Например, Р. С. Белкин говорит о проверке достоверности и установлении согласованности доказательств как сторонах исследования фактических данных [252] Белкин Р. С. Указ. соч… С.58–63; Криминалистика. Учебник. Под ред. ____, 1999. С. 66–68.
, то есть подчеркивается аналитический компонент исследования сведений о фактах. Данная позиция основана на соответствующих нормах УПК РСФСР, где в большей, по сравнению с ГПК РСФСР и АПК РФ, степени делается акцент на интеллектуальной работе субъектов доказывания в процессе исследования ими доказательств. Так, в ст. 283 УПК РСФСР имеется указание на правомочие участников процесса задавать вопросы свидетелям, но одновременно говорится о праве председательствующего устранять вопросы, не относящиеся к делу. Статья 288 УПК РСФСР предусматривает заслушивание судом мнения участников уголовного судопроизводства относительно содержания вопросов, поставленных перед экспертом, после оглашения этих вопросов. Статья 283 УПК РСФСР предоставляет право участникам процесса допрашивать свидетелей, в то время как соответствующая норма ГПК РСФСР (ст. 170) и АПК РФ (ст. 117) предусматривают лишь возможность задавать вопросы свидетелю лицами, участвующими в деле. Эти и другие различия в терминологии, на наш взгляд, отражают более активную позицию участников уголовного процесса по сравнению с лицами, участвующими в гражданском и арбитражном деле, хотя по смыслу указанных видов судопроизводства, казалось бы, должно быть наоборот. По нашему мнению, в гражданском и арбитражном судопроизводстве, где основные обязанности по доказыванию возлагаются на стороны по делу и их представителей, именно эти лица должны быть наиболее активными в осуществлении доказывания, в том числе в исследовании доказательств.
При сравнении двух описанных подходов к содержанию понятия «исследование доказательств» представляется обоснованным утверждение В. И. Коломыцева и других ученых о единстве исследования и оценки доказательств. Вместе с тем, проводить столь резкую грань между интеллектуальной и процессуальной сторонами доказывания, по нашему мнению, нет оснований, поскольку как и в исследовании, так и в оценке доказательств имеются и логические, и правовые моменты. Оценка доказательств, которая далее будет подробно рассмотрена, являясь по содержанию логической деятельностью, выражается в процессуальных решениях. Исследование доказательств, как отмечалось нами выше, является познанием сведений о фактах. Познание же представляет собой интеллектуальную работу субъектов познания. В гражданском и арбитражном процессе имеет место особое познание фактов, процессуальное по своему характеру и последствиям, однако это совсем не означает, что оно лишено элементов анализа познаваемых обстоятельств гражданского и арбитражного дела.
Нам представляется, что исследование доказательств следует понимать не только как ознакомление субъектов доказывания с содержанием фактических данных, но и как одновременный их анализ, установление общих связей между отдельными доказательствами, определение направлений их дальнейшего использования.
На наш взгляд, конкретное исследование адвокатом доказательств целесообразно проводить поэтапно, с использованием определенного плана. Так, вначале исследовать содержание доказательства, то есть качество информации об искомых фактах, затем его форму, то есть порядок изложения данной информации, далее — характер источника и т. д. Детальное исследование доказательств адвокатом не входит в задачу настоящей работы, так как решение этого сложного круга вопросов и выработка рекомендаций по осуществлению исследования — самостоятельная научная проблема. Ограничимся лишь приведением нескольких примеров исследования адвокатом отдельных видов доказательств.
Так, одним из наиболее важных видов доказательств в гражданском и арбитражном судопроизводстве, являются объяснения сторон и третьих лиц. Однако, исследование этих объяснений сопряжено с большими трудностями, основная причина которых — двойственная процессуальная природа объяснений. Например, с одной стороны они выступают как средство изложения сторонами (и третьими лицами) своей позиции по делу, в которой содержаться требования или возражения, выдвигаемые на основе фактов предмета доказывания. С другой стороны, объяснения рассматриваются как доказательства по делу. Эта противоречивость в оценке объяснений сторон (и третьих лиц) отражена и в законодательстве, и в судебной практике. Например, ст. 167 ГПК РСФСР названа «Установление порядка исследования доказательств», но ей предшествует ст. 166 ГПК, посвященная объяснениям истца, ответчика, третьих лиц. В проекте ГПК РФ также повторяется данная последовательность (ст. ст. 176, 183, 185). Данное сопоставление этих двух норм дает основание для вывода о том, что информация, исходящая от сторон и третьих лиц, фактически не признается доказательством, несмотря на то, что в ст. 49 ГПК РСФСР объяснения сторон и третьих лиц названы в числе средств доказывания. Похожая непоследовательность имеет место и на практике: судьи нередко указывают на необходимость подтверждения объяснений доказательствами. Иногда допускается смешение понятий и в теоретических исследованиях. Так, в статье А. Коваленко и В. Нечаева, где рассматриваются объяснения сторон как доказательства по гражданским делам, утверждается, что письменная форма объяснений — это исковое заявление истца и возражения ответчика [253] Коваленко А., Нечаев В. Объяснения сторон как доказательство по гражданским делам. Советская юстиция. 1984. № 7. С. 20–21.
. С данной точкой зрения нельзя согласиться, поскольку в указанных документах выражается позиция сторон, тогда как доказательственное значение имеют объяснения сторон в судебном заседании.
Читать дальше