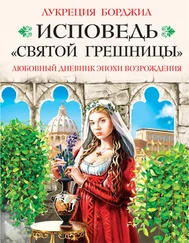Plattard Jean . La vie et l'oeuvre de Rabelais. P., 1939. P. 93.
Ср. шутливое накопление взаимоисключающих определений у самого автора, описывающего в начале первой книги флягу, в которой нашли генеалогию Гаргантюа: «большая, серая, красивая, маленькая» (I-1).
Stapfer P . Ibid. P. 308.
См. статью: Roques Mario . Aspects de Panurge. Сб. «François Rabelais. Ouvrage publié pour le 400 an de sa mort, 1553–1953». Génève, 1953.
«Pantagruelisme – vous entendez que c'est certaine gayté d'esprit» (Livre IV. Prologue de l'auteur).
Lefranc A . Rabelais. P., 1953. P. 194–196.
Ibid. P. 188.
Sainéan L . L'infl uence et la réputation de Rabelais. P., 1930. P. 100.
Lefranc A . Rabelais. P. 177.
Lefranc A . Rabelais. P. 178.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. XIV. С. 477.
Ср. замечание Паскаля о реках как «движущихся дорогах».
«Bon espoir y gist au fond» – «там на дне (пантагрюэльской бочки) покоится добрая надежда» (Пролог к Третьей книге). «Gist» – это польза у Томаса Мора.
Например, слова Бакбук: «Мы придерживаемся того мнения, что человеку свойственно не смеяться, а пить», – противоречащие «букве и духу» всего произведения Рабле.
Вряд ли, однако, «жестокость» Панурга обязательно должна, как у некоторых критиков Рабле, вызывать возмущение. Эпизод «Панургова стада» в фантастическом и достаточно условном повествовании Рабле слишком близок к притче, для того чтобы вызывать подобное чувство, уместное лишь в реалистически бытовом романе. Притчей – оторванной от целого – этот эпизод и вошел в сознание читателя и в литературный язык, что видно и по неточному названию.
Первое определение – взгляд известного исследователя Рабле Сенеана – основано на отождествлении пантагрюэлизма с «положительной видимостью» Пантагрюэля. Второе, взгляд Мериме, – на отождествлении с Панургом или, точнее, с его «отрицательной ролью».
Евнина Е. М. Франсуа Рабле. М.: Гослитиздат, 1948. С. 235. Это первая – и пока единственная вышедшая в свет – советская монография о Рабле. В главе III, где устанавливается характер комического, автор приходит к выводу, что «смех Рабле, конечно, прежде всего сатиричен» (с. 257). Расхождение, однако, здесь больше терминологического порядка, так как сатира отождествляется с «обличительным смехом» (241–242), роль которого в «Гаргантюа и Пантагрюэле», разумеется, велика.
В неопубликованной диссертации М. М. Бахтина «Ф. Рабле в истории реализма» концепция «карнавального» и «амбивалентного» смеха Рабле, отличного от сатиры, юмора и забавно-комического, во многом близка развиваемой в этом очерке, но обоснована иначе – связью Рабле с неофициальной линией народного искусства Средних веков, с традицией «готического реализма». Рукопись этого высокоталантливого исследования исключительного интереса (с которой я познакомился, когда настоящая книга уже была в наборе) находится в архиве Института мировой литературы им. Горького.
На нее указывает Дю Белле в «Защите и восхвалении французского языка» – крупнейшем памятнике эстетической мысли французского Возрождения.
О Плутон, прими Рабле,
Дабы впредь тебе, королю тех,
Кто никогда не смеется,
Иметь своего смехотвора.
См.: Леонардо да Винчи . Сочинения. Ч. I. Academia, 1935. С. 58, 69, 110.
«И земля была пустынна и невозделана (в древнееврейском тексте tohu vobohu) и мрак над бездной» (начало Библии, стих 2).
Желающего судьба ведет, нежелающего – волочет (Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Письмо 107, стих 11)..
Charpentier J . Rabelais. P., 1944. P. 309.
Lefranc A . Rabelais. P. 251. См. также с. 357, где по поводу прославления конопли высказывается предположение, что, вероятно, этот эпизод – «эхо современных проектов, связанных с развитием этой культуры, столь важной в связи с новыми экономическими потребностями». Дивному пантагрюэлиону явно свойственна – о чем Рабле, правда, не говорит – способность восстановления человеческой природы в ее цельности; пантагрюэлион вызывает комический дар даже у почтенного старого ученого, который в общем не очень-то жалует смешное в «Пантагрюэле».
«Персей», однако, занимает выдающееся место в истории скульптуры, в ее отделении от зодчества. В отличие от стоявшего тогда на той же площади творения «божественного Микеланджело Буонаротти», его «чудесного Давида», который «хорош только, если смотреть на него спереди» («Жизнеописание», книга 1, глава 91), и как бы вписан в плоскость стены, автор «Персея» стремился создать композицию совершенную «не только с той стороны, которая является показной, но кругом со всех сторон», ибо «статуя… должна иметь восемь точек зрения, и все они должны быть одинаково хороши» (см. письмо Б. Челлини от 28 января 1547 г. к Б. Варки. Сборник «Мастера искусства об искусстве». Т. I. 1937. С. 243). В «Персее» эта задача решена весьма эффектно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
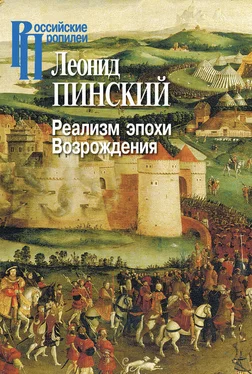





![Петр Киле - Очаг света [Сцены из античности и эпохи Возрождения]](/books/168281/petr-kile-ochag-sveta-sceny-iz-antichnosti-i-epohi-thumb.webp)