Особое значение арийская идея имеет для осетин, наделяя их «аланской идентичностью». Она помогает им гордиться предками-завоевателями, принесшими на Северный Кавказ высокую культуру и создавшими там древнейшую государственность, которую осетины считают своим историческим наследием. В советское время осетины в гораздо большей степени, чем другие народы Северного Кавказа, подверглись модернизации. При этом они, с одной стороны, стали одним из наиболее образованных народов СССР, но, с другой, в значительной мере утратили свои язык и традиционную культуру. В условиях этнического ренессанса постсоветского времени это поставило их в трудное положение и создало представление о моральном разложении и упадке. Поэтому они с жадностью принялись искать свои древние корни, что возвращало им их исконных богов и героев и позволяло обращаться к моральным заветам древних предков, неизменно оказывающихся «арийцами» (аланами). Кроме того, в условиях затяжного конфликта с грузинами на юге и с ингушами на востоке осетины нуждаются в образе воинственных и победоносных предков, помогающем им крепить солидарность и верить в грядущую победу над всеми своими врагами (Шнирельман 2006: 170–196).
В этом им содействуют некоторые русские интеллектуалы. Так, один из них выпустил увесистый фолиант, содержащий не только апологию аланских военных успехов в раннем Средневековье, но и подчеркивающий принадлежность аланов к «арийству» (Лысенко 2009). Прибегая к гумилевской терминологии, автор представил аланов «панъевразийским суперэтносом» с «общеаланской идентичностью», а также «северной арийской цитаделью», ну и, разумеется, «пассионариями своего времени». При этом он конструирует «кочевые империи», даже не задумываясь о содержании этого понятия. В его устах они оказываются примерами «этнической самоорганизации», отрицающей государственные формы. Не много смысла и в его понимании «арийства», ибо, похоже, парфян он из этой категории исключает, зато у русских находит «общие арийские начала» с осетинами. Какими критериями он при этом руководствовался (кроме, разумеется, националистических и «геополитических»), остается неясным.
Нечего и говорить о том, что нацию он понимает исключительно в эссенциалистских терминах. Поэтому он ведет речь о «национальной истории аланов» и находит у них «национальный менталитет», а также «национальный патриотизм».
Примечательно, что автор книги не упустил возможности оперировать расовыми понятиями. Он, например, ввел понятие «эпохообразующих наций», восстанавливая в правах расистский принцип иерархии. Он также приписал «арийским народам» «уникальный психофизиологический тип», а аланов отнес к «генетически наиболее ценному и этнопсихологически наиболее цельному массиву арийского социума» (Лысенко 2009: 13, 322). Разумеется, армяне и, тем более, грузины оказываются «менее ценными» – ведь руководивший армянами Тигран II рисуется автором «старым полубезумным комедиантом», а Древняя Грузия – «римской марионеткой», причем ее исторические деятели исключительно «раболепствуют перед Римом» или оказываются ужасными злодеями (Лысенко 2009: 44, 240, 325). Исходя из таких установок, ценность разных народов оказывается различной, чего и требует расистская парадигма. То же самое можно сказать и о стремлении автора изобразить войны Парфии с Римом как столкновение «антагонистических духовно-социальных ценностей», то есть в современных терминах «столкновения цивилизаций». По сути, он конструирует якобы вечное противостояние Запада и Востока, вызванное несходными «менталитетами». Но к этому он добавляет еще и третью северную силу, Туран, отличающийся от них обоих.
Не менее интересна причина, по которой этот русский автор взялся за историю аланов. Оказывается, она помогает ему осознать место русских в современном мире: ведь «национальной судьбой алан стало исполнение исторической миссии возрождения северной арийской империи на просторах евразийского континента с последующей передачей арийской исторической эстафеты в руки русских» (Лысенко 2009: 14). По словам автора, Восточная Европа оказывается в сфере этнополитической ответственности аланов и славян. Поэтому возвеличивание аланов должно, на его взгляд, благотворно сказаться на этническом самочувствии современных осетин и русских и способствовать их национальному «возрождению». Кроме того, в его устах восточные славяне, точнее, русские оказываются главными геополитическими преемниками «великой исторической миссии асов-аланов». Миссия же эта заключается «в воссоздании нового геополитического центра североарийского мира – Арийского Турана, в воссоздании и развитии важнейших арийских духовно-психологических доминант, а в конечном счете в утверждении Арийского Турана как нового и важнейшего духовного центра Евразии» (Лысенко 2009: 322). Таким образом, история аланов метафорически используется здесь для легитимации современной, по сути, имперской идеи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
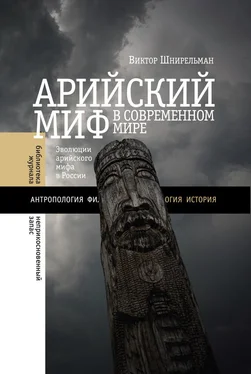
![Евгений Примаков - Россия в современном мире. Прошлое, настоящее, будущее [сборник]](/books/27003/evgenij-primakov-rossiya-v-sovremennom-mire-proshlo-thumb.webp)








