Рассматриваемый миф находит своеобразное выражение в книгах писателя Ю. А. Никитина, увлеченного не столько Северной прародиной, сколько русским язычеством как исконной традицией. Бывший диссидент русской националистической ориентации, вынужденный в 1983 г. переселиться с Украины в Москву, он был сначала поглощен идеей «жидомасонского заговора», якобы уходившего своими корнями едва ли не к временам Сотворения Мира и ставившего своей целью установление власти избранных Мудрецов над миром (см. особенно: Никитин 1995). Героем его первых романов являлся русич Вещий Олег, волхв, сохранивший верность прежним установкам и обычаям, несмотря на установление христианства. Делая его компаньоном рыцаря-франка и отправляя их в далекие странствия от Палестины до Руси и Западной Европы, автор постоянно подчеркивал непреходящее значение русского языческого духовного наследия, по всем статьям превосходившего убогие западные и христианские моральные ценности. При этом христианство обвинялось в уничтожении исконной веры предков, ее служителей-волхвов и древней грамотности (Никитин 1994а: 99; 1994б: 7, 13, 277). Вслед за немецкими романтическими авторами XIX в. Никитин противопоставлял культуру цивилизации как высшее низшему и связывал первую с язычеством, а вторую с Сатаной. В то же время сторонником культуры у него оказывался и Христос, тогда как носители идеи цивилизации неизменно связывались с тайными силами, мечтавшими о мировом господстве или даже уже установившими мировое правительство (Никитин 1994а: 102–103, 126, 129, 161; 1994б: 20; 1995: 17–18, 167–169, 233–234, 404). В его книгах содержались стандартные выпады против хазар и иудаизма: в частности, иудейский бог обвинялся в необычайной жестокости, в ненасытной жажде кровавых человеческих жертв, в стремлении полностью уничтожить славян (Никитин 1994а: 115–117; 1995: 22, 36–37, 54–55). Не обходился вниманием и «кровавый навет» (Никитин 1995: 389).
Заклятыми врагами Олега представлялись масоны, или «жидомасоны», которые служили идее прогресса, цивилизации и для которых свободолюбивый «неуправляемый» славянский народ представлялся высшей опасностью и поэтому должен был исчезнуть (Никитин 1994а: 128–129; 1995: 167–168, 217, 231, 234). Автор отдавал дань неоязыческой мифологеме о том, как князь Владимир, выполняя заказ масонов, оплел Русь христианской сетью и превратил русичей в рабов. Одновременно читателю недвусмысленно давалось понять, что вредоносные тайные силы, стремившиеся к мировому господству, были связаны именно с евреями (Никитин 1994а: 457–460; 1994б: 7, 254, 269, 273–274; 1995: 406, 413). Герои Никитина позволяли себе и откровенно антисемитские заявления, к которым Олег, правда, относился как будто бы скептически (Никитин 1994б: 253–260). Видимо, автор все же принимал некоторые меры предосторожности, чтобы отвести от себя возможные обвинения в антисемитизме. Правда, с каждым новым романом он делался в этом отношении все смелее и раскованнее.
Обращает на себя внимание тот факт, что в рассматриваемых книгах Олег действовал в союзе с христианами. При этом русское язычество представлялось фундаментом, на котором возникли все более поздние религии, в том числе мировые (Никитин 1994а: 164; 1994б: 67–68). В то же время, воссоздавая славянские языческие мифы, автор без зазрения совести черпал материалы из Ветхого Завета (Никитин 1995: 34, 116, 258) и в целом христианской символики. Так, обращаясь к волхву Олегу, люди нередко называли его «Святой Отец» (Никитин 1995: 235). Как бы то ни было, отношение автора к христианству было довольно благосклонным и снисходительным как к младшему брату язычества, но все еще молодому и невежественному (Никитин 1994б: 24). В своем представлении о язычестве Никитин сближался с позицией газеты «Родные просторы», о чем свидетельствует следующая позиция Олега: «Мой бог – разум, знание… Мой мир вообще без богов» (Никитин 1994б: 116). Иными словами, и здесь «язычество» оказывалось прикрытием для откровенного атеизма.
Русичей автор представлял едва ли не основой, на которой сформировались все прочие народы (Никитин 1994а: 108, 353). Они объявлялись потомками скифов, которые якобы когда-то широко расселялись от Передней Азии до Западной Европы, передавая местным народам свои культурные достижения и своих богов. В частности, с точностью до наоборот заявлялось о том, что греки унаследовали своих богов от скифов. Скифам же приписывалось и сооружение ранних финикийских городов, причем в тот период, когда скифов и на свете-то не было. Одновременно финикийцы объявлялись «чистейшими русами», которым и приписывалось создание древнейшей в мире письменности. Наряду с финикийцами хананеи также отождествлялись с русскими племенами. Тем самым, древний Левант показывался исконно русской территорией (Никитин 1994б: 232–233, 241, 264, 265). Устами одного из своих героев автор воспроизводил крайние образцы русских неоязыческих мифов о происхождении всех народов мира от русов (Никитин 1994б: 261–270). Сам автор как будто бы относился к этим построениям с известной долей иронии, хотя и не без симпатии. Все же мысль о культурном приоритете русов-язычников, которых он упорно отождествлял со скифами (см., напр.: Никитин 1995: 405), ему была, безусловно, дорога, равно как и манихейское представление о вечной борьбе между силами Света и Тьмы, которым в ближайшем будущем предстоит окончательная битва (Никитин 1994б: 472). Вряд ли надо пояснять, кто для него представлял силы Света, а кто – Тьмы. Это достаточно ясно из изложенного выше контекста его повествований. Как бы то ни было, совершенно очевидно, что часть неоязычников склонны к компромиссу с христианством во имя совместной борьбы с «жидомасонским заговором».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
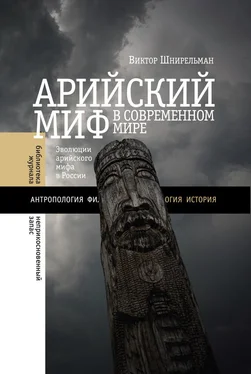
![Евгений Примаков - Россия в современном мире. Прошлое, настоящее, будущее [сборник]](/books/27003/evgenij-primakov-rossiya-v-sovremennom-mire-proshlo-thumb.webp)








