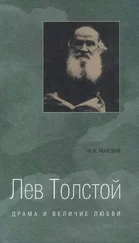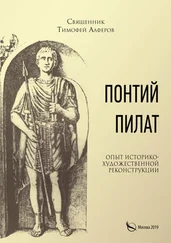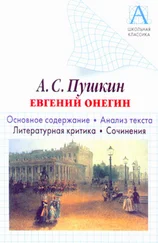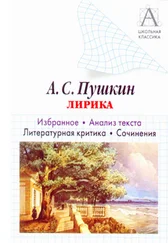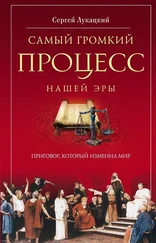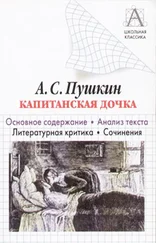Из отзыва понятно, что Александр Тургенев видел в пушкинском поведении не просто «веселое кощунство», а форму либертенного поведения, поскольку упрекал Пушкина не просто в «безбожии», а в чем-то, что «хуже этого». А хуже безверия – либертинаж, не просто дезавуирующий действующую систему религиозных ценностей, но и предполагающий ей известную альтернативу.
Деятельность по насаждению в обществе морально-этических норм вело не только правительство. Другим нормообразующим центром гражданского поведения в 1818 – 1820 годах был Союз Благоденствия, и направление кодифицирующих усилий правительства и Союза Благоденствия во многом совпадали, различаясь лишь в одном, правда, очень существенном отношении: правительство учреждало в стране религиозное вольномыслие и некоторое равенство христианских конфессий, тогда как декабристы пытались отстаивать приоритет национального начала в гражданской этике и религиозной жизни.
Таким образом, «веселое кощунство» Пушкина воспринималось как враждебное не только правительством, но и декабристами, поскольку либертинаж поэта не особенно отличал насаждаемый правительством мистицизм от морализаторских начинаний членов Союза Благоденствия, и главным образом потому, что этот либертинаж носил определенный антимасонский оттенок, субботние разгульные встречи «Зеленой лампы» имели в своей основе пародирующий масонские собрания элемент.
Можно утверждать, что в 1818 – 1820 годах в глазах современников эротизм поэзии и кощунственное поведение перевешивали демонстрируемую Пушкиным склонность к политическому свободомыслию. Между тем для самого поэта важны были все три составляющие его творческого мировоззрения, а именно подчеркнутый эротизм, религиозное вольномыслие и политический либерализм. Именно в таком сочетании пушкинское кредо выражено в ряде программных стихотворений 1819 – 1820 годов: «N. N.» («‹В. В. Энгельгардту›»), «Веселый пир», «Всеволожскому», «Послание к кн. Горчакову» (все – 1819 год), «Юрьеву» (1820). Все эти произведения, кроме «Послания к кн. Горчакову», адресованы членам «Зеленой лампы». Триединство эротики (культа наслаждения), политического либерализма и религиозного вольномыслия отражено в поэтических формулах, которыми поэт характеризует своих друзей; так, к В. В. Энгельгардту обращены строки: «Свободы, Вакха верный сын, / Венеры набожный поклонник / И наслаждений властелин!» [99] Пушкин А. С . ПСС. Т. 2. С. 83.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Цит. по: Модзалевский Б. Л . Работы П. В. Анненкова о Пушкине // Пушкин и его современники. М.: Книжный клуб Книговек, 2015. С. 477.
«Июнь 16. Опять был у меня Норов. ‹…› Вчера он, между прочим, рассказал мне следующий анекдот об А. С. Пушкине. Норов встретился с ним за год или за полтора до его женитьбы. Пушкин очень любезно с ним поздоровался и обнял его. При этом был приятель Пушкина ‹В. И.› Туманский. Он обратился к поэту и сказал ему: “Знаешь ли, Александр Сергеевич, кого ты обнимаешь? Ведь это твой противник. В бытность свою в Одессе он при мне сжег твою рукописную поэму”. Дело в том, что Туманский дал Норову прочесть в рукописи известную непристойную поэму Пушкина. В комнате тогда топился камин, и Норов по прочтении пьесы тут же бросил ее в огонь. “Нет, – сказал Пушкин, – я этого не знал, а узнав теперь, вижу, что Авраам Сергеевич не противник мне, а друг, а вот ты, восхищавшийся такой гадостью, как моя неизданная поэма, настоящий мой враг”» ( Никитенко А. В. Дневник: [В 3 т.] М.: ГИХЛ, 1955. Т. 2. С. 523).
Горчаков А. М. О Пушкине (Из письма А. И. Урусова к издателю «Русского архива») // Пушкин в воспоминаниях современников. 3-е изд., доп.: [В 2 т.] СПб.: Академический проект, 1998. Т. 1. С. 378. (Далее при ссылках на это издание: Пушкин в воспоминаниях современников, с указанием тома и страницы.)
C’est le premier biographe qui ait osé dire cela de son héros, que je sache. – Добавление Соболевского. Перевод: Это первый биограф из тех, кого я знаю, который посмел сказать подобное о своем герое ( франц. ).
Читать дальше
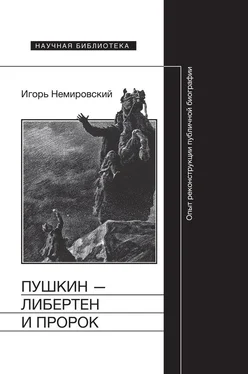
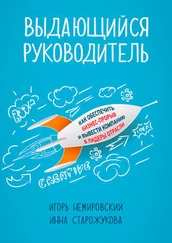
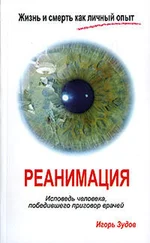

![Игорь Немировский - Поиск Патриарха [СИ]](/books/412424/igor-nemirovskij-poisk-patriarha-si-thumb.webp)