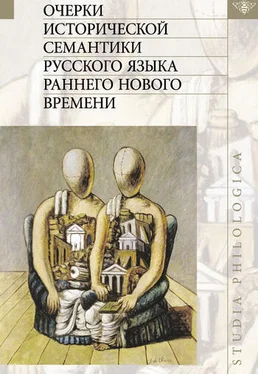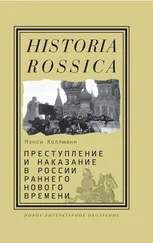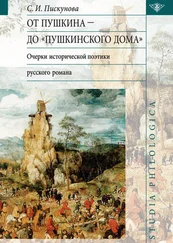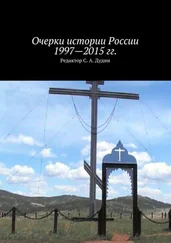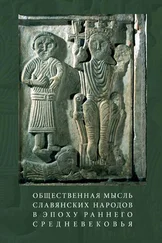Вот этого свойства у русского времени не было, и это время часы, построенные на русской территории, не показывали. Они не строятся на рыночной площади. Первые московские часы сооружаются на княжеском дворе, за церковью Благовещения, там, где купцам и ремесленникам делать было нечего. Равным образом и первые новгородские часы появляются не на торговой стороне, а на Софийской. Церковь Иоанна Златоуста строилась владыкой Евфимием «оу себе во дворѣ» [ПСРЛ IV: 434]. Даже если часы были видны с торгового пространства, как часы над Спасскими воротами, нет никаких доказательств того, что торговый люд с ними справлялся [10]. Часы по крайней мере до середины XVII в. оставались эстетическим объектом по преимуществу, не столько измерителем времени, сколько архитектурным атрибутом власти [11].
Такое функционирование часов отнюдь не беспрецедентно. Именно так, как показал Карло Чиполла [Cipolla 1967], обстояло дело с часами в Китае. Европейские часы появились в Китае в конце XVI в., их привозили иезуиты в качестве даров императору и его вельможам. Их называли «самозвонными колоколами» (selfringing bells) и высоко ценили, однако китайцы, как пишет Чиполла, «essentially {…} regarded the Western clock as a toy and only as a toy» [Ibid.: 87]. Как он замечает далее, «[l]enses, clocks, and other instruments had been developed in Europe to satisfy specifc needs felt by European society in response to problems set by the European socio– cultural environment. In China the contrivances fell unexpectedly out of the blue and quite naturally the Chinese regarded them merely as amusing oddities» [Ibid.: 88]. Такая рецепция определяется господствующим социокультурным дискурсом. «Urban life did not set the tone of the national culture. In a society composed essentially of an upper class of literati trained in the humanities and of a large mass of peasants who, as Dr. Chiang puts it, ‘counted their time in days and months, not in minutes or hours’, the clock had little chance to play the role of a useful, practical contrivance» [Ibid.]. В Московской Руси по крайней мере до середины XVII в., так же как и в Китае более позднего времени, «the tone of the culture in towns was always agricultural and bureaucratic» [Ibid.: 101], и поэтому китайская парадигма восприятия может быть – mutatis mutandis – приложима и к средневековой Руси.
Таким образом, на русской почве никакого конфликта сакрального времени церкви и времени купцов не возникало. Как и в городах Италии или Франции, в русских городах трудились ростовщики, и их жадность могла быть предметом церковного осуждения. Однако в русских епитимийниках, в отличие от западных пенетенциалов, не найдешь рассуждения о том, что ростовщик по природе вор, поскольку извлекает прибыль, продавая время, которое принадлежит не ему, а Богу (примеры такого определения ростовщического греха многочисленны, Ле Гофф приводит их в книге «La bourse et la vie» – [Le Goff 1986: 42–44; 1999: 1287–1289]). Отсутствие подобных рассуждений не случайно; оно обусловлено тем, что время церкви никак со временем купцов не конкурировало. У купцов своего времени не было, у них было то же время, что и у всего общества. Религиозная парадигма, объединявшая общество, обращалась не к исчислимому времени, а к вечности, а потому исключала всякий счет – даже в той форме калькуляции грехов и заслуг, который был свойствен западной религиозности. Чистилища не было, индульгенциями не торговали, время мытарств на счетные единицы не разлагалось. И время, и деньги, никем специально не апроприированные, располагались вне стен храма, а именно храм, а не кабинка исповедника был локусом и образом спасения.
Сотериология и временная калькуляция.Общая связь представлений о спасении с представлениями о времени вполне очевидна и нуждается лишь в минимальных комментариях. Как уже говорилось, линейное время христианского мировосприятия – это время, устремленное ко Второму Пришествию Христову и Страшному Суду. В раннем христианстве, когда конца мира ожидали с года на год, эта перспектива была сжата и сдвинута на зрителя. В следующую эпоху, когда христианство становится религией империи, горизонты ожидания отодвигаются вдаль. Это происходит, возможно, не столько в силу того, что (как это обычно объясняется) конец света никак не случался, сколько в силу того, что к христианству присоединились массы населения, привыкшие к иному ритму жизни, размеренному и не подчиненному эсхатологическим предчувствиям. Вероятно, в самой общей перспективе можно сказать, как это делает Р. Козеллек, что «христианское учение о последних днях устанавливало (грубо говоря, вплоть до середины XVII в.) недвижимые границы для горизонта ожидания» [Koselleck 2004: 264, ср. p. 232]. Однако вовсе не очевидно, что это учение имело равную значимость для разных христианских культур и для разных социальных групп средневекового общества. Ожидания близкого конца света возникали не раз и нередко были связаны с различными календарными датами, однако сама эта связь указывает на невсеобщность подобных ожиданий: те, кто не следил за счетом годов (не исчислял время своей жизни годами от сотворения мира или от Рождства Христова), такого рода эсхатологических страхов испытывать не мог. Поскольку хронологизация жизни в рамках универсальных хронологий была, как правило, чужда средневековому аграрному обществу (и на Востоке, и на Западе), следует быть весьма осторожным, приписывая эсхатологизм различным группам носителей так называемой народной религиозности [12].
Читать дальше